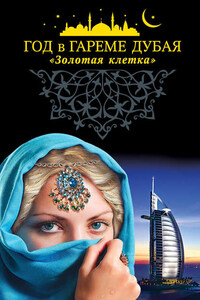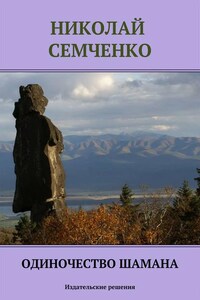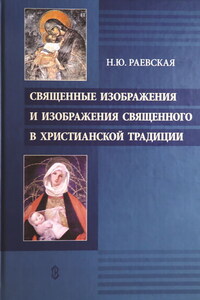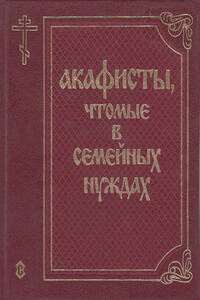Когда мне было восемь лет, наши уголовники только вернулись из тюрем. И вот как-то они придумали обокрасть бакалейную палатку, которая раньше работала у нас на третьем дворе. Сделали подкоп, залезли туда и все ценное: вино, водку, колбасу – вынесли, а потом собрали нас, малышей, и, показав лаз, запустили туда полдвора. Остроумно, ничего не скажешь. Ясно, что после нас ни одна собака не возьмет след.
Я и сам туда лазил. Юрка-татарин объяснил мне, что нам за это ничего не будет. Я и полез… А Юрка, наверное, сдрейфил. Сладко было думать, что вот ведь, лет на семь старше меня, а переср…л. Но странно получалось. Получалось, что их более старший возраст дает им право трусить? До настоящего ответа, что Юрке-татарину не обязательно самому лазить в палатку, что он выступает в роли, скорей, организатора таких, как я, мелюзги, – я в то время не мог додуматься.
В палатке было полутемно, окна заставлены ставнями, а пахло хозяйственным мылом и подсолнечным маслом. На жестяном прилавке стояли весы, вокруг которых валялись гирьки для взвешивания и – ух ты! – целая куча мелочи. Ребята бросились на мелочь чуть не в драку. Я тоже вырвал себе горсть серебра для игры в расшибец.
– Что там, Миха? – прошипел кто-то из ребят. Миха наклонился над огромным фанерным ящиком.
– Спички! – отрывисто сказал он. Мы бросились на ящик и в минуту все растащили. Я набил за пазуху целую кучу коробков. Грязный оранжевый свитер вздулся на животе уродливой, угловатой горой. После наших воров кроме соли и спичек здесь ничего не осталось. После нас, малышни, осталась одна соль.
Странно, пока я был там, внутри палатки, мне казалось, что воровать очень весело и интересно. Но как только я из нее выбрался, сразу почувствовал что-то не то: знобило, тошнило и домой совсем не хотелось. Где я спрячу такую прорву спичек? Как пронести их домой, чтобы мама не заметила? Я трусил и нехотя тащился домой. Дома я торопливо вывалил их в шкаф, стоявший в темной прихожей, и прикрыл сверху какой-то рваниной. В этом и состояло все заметание следов. Мне казалось, что в темноте прихожей свет правды не просияет никогда. Как только я от них отделался, настроение стало получше. Я, всегда быстро переходивший от одного состояния к другому, и тут немедленно почувствовал себя прежним и хорошим. Но сто раз права Аркашкина мама: нет ничего тайного, что не стало бы явным. Папа пришел с работы не один, а с каким-то мужиком.
– Ты что-нибудь видишь? – спросил папа мужика.
– Нет, а что?
– И я ничего не вижу. Вот так: не живем, а мучаемся.
– Какие дела! И-сделаем, Ефимыч, – весело сказал мужик.
Я снова почувствовал себя гадом и затаился в комнате.
– Ты только скажи, у тебя чего-нибудь есть? – загадочно спросил мужик.
– Поищем. Румочка где-то была.
– Ой! Люблю я вас евреев. Сами живете и людям жить даете.
– Ты сначала сделай, – сказал папа довольным голосом. Видно, похвала мужика пришлась ему по вкусу.
– Не спеши, Ефимыч. Какие дела! За лестницей схожу и сделаем в лучшем виде, – сказал мужик.
Я прислушался. Папа на кухне хлопнул дверцей холодильника – наверно, проголодался, искал еду. «Надо их перепрятать», – шепотом подумал я. В темноте коридора я набил спичками полный портфель и бесшумно выскользнул за дверь. Сначала был план выкинуть их на помойку вместе со старым Валеркиным портфелем и с плеч долой. Но спичек было жаль. Ведь сколько из них выйдет поджиг.