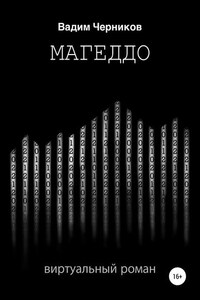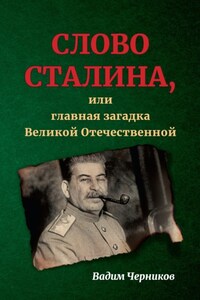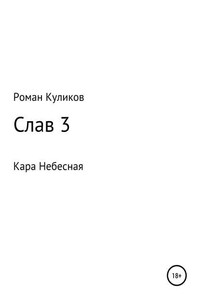Весной 2000 года вахтенный одного из российских сухогрузов, шедших по Карскому морю караваном из Певека в Мурманск закричал и указал направо. Моряки десятка судов с изумлением увидели удивительную картину: из моря, бесшумно и величественно, вставал остров. Небольшой, метров двести – привычно отметили намётанные глаза моряков. Древние постройки, колоннады, разрушенные дороги и улицы, по которым с шумом стекали потоки грязной воды, видели сотни моряков. Остров всплыл и показался им во всём великолепии, сияя жёлтыми бликами среди розового утра. О том, чтобы подойти поближе, капитаны даже не думали. И правильно: через несколько минут остров вздрогнул и погрузился обратно в морскую пучину.
По прибытии в Мурманск все моряки каравана были опрошены специальной комиссией. Показания сходились до мелочей. Всплывающий остров Карского моря стал реальностью. Только никто не знал, когда ждать следующего его появления.
Полутьма в вагоне, тепло, да сквозит, по ногам гуляет холод. Светят жёлтыми язычками пара закопчённых керосинок. Меж досками пола посвистывает ветерок. Надышали люди, накурили, а кто и перекусить успел, не вытерпел до станции. Быстро ели что-то, закрывая рукавами от взглядов соседских, нарочито не замечая чьего-то завистливого кряхтения, хмыканья да громкого глотания липкой, голодной слюны. К утру поезд должен был прийти в Архангельск-город и вагон постепенно пустел людьми, да наполнялся северным, поморским, окающим говором. Кто-то ехал в сам город, к «трескоедам», как шутя называли архангелогородцев жители окрестных сёл, кому-то выходить было раньше, на бесчисленных полустанках и разъездах Беломорья. Пахло угольным дымом, махрой, вяленой треской, луком и перегаром, но всё перешибал селёдочный неистребимый дух. Раньше её в этих краях ели иногда, свежею, основное только скоту и толкли, а теперь и сами рады любой, хоть ржавой. Зима шла на убыль, но в середине марта ещё сыпала снежком и прихватывала ночным морозцем. Народ ехал разный, в основном усталые женщины, серьёзные, негромкие дети, степенные старики, вёрткие старушки, несколько подозрительных на вид и на запах мужичков, да пара солдат-инвалидов в старых телогрейках и с тощими вещмешками.
Не считая ещё двух интересных персонажей. Один тихо дремал в темноте, негромко похрапывая и постанывая. Второй был на виду. На откидной полке у окна разместился мужчина лет тридцати -а может, и больше-, весь в чёрном. Чёрные форменные брюки были заправлены в короткие сапоги. На плечи накинут чёрный новенький полушубок. Чёрная флотская шапка с якорем лежала перед ним на хлипком столике. В распахнутый ворот тужурки была видна тельняшка в чёрно-белую полосу и мощная, длинная шея. Под ногами моряка стоял один туго набитый вещмешок, а на второй он опирался локтем. Два чёрных валенка, вдетых один в другой, были воткнуты между мощным его туловом и грязным, с трещиной от угла до угла вагонным стеклом. Серо-стальные глаза моряка глядели на всё спокойно и умиротворённо. Всё подмечали. Длинные, похожие на ласты нерпы кисти его высовывались из рукавов и белели– розовели старыми и свежими шрамами-рубцами. Ещё один начинался от правого виска и чертил свой неровный след вверх, теряясь где-то под шапкой русых, тронутых сединой на висках волос.
Моряк ехал долго, попутчики его менялись на каждой станции и полустанке, но ни с кем он не разговаривал, лишь смотрел по сторонам и впитывал, казалось, новую для себя жизнь, кипевшую вокруг него в ползущем по военной стране вагоне. Смотрел днём, а по ночам, пряча руки за шапкой, читал-перечитывал, шевеля губами беззвучно, листы в крупную линейку, сворачивая их обратно в треугольники, вставляя конец в клапан и пряча куда-то глубоко, под сердце. С каждой сотней километров, приближающих его к дому, лицо его всё светлело, становилось будто бы благороднее и наливалось мужской, глубокой и мощной красотой. Женщины, натыкаясь на спокойный, не раздевающий, а ласкающий его взгляд, теплели, вспоминали и заливались румянцем. Не стыдным румянцем, выдающим их тайные -да что там тайного-то! – у кого месяцы, а у кого и годы уже проходили без мужской ласки– желания, а вспыхивали, осознавая себя вновь женщинами, тихо любовались мужчиной и вспоминали, мечтали… И выходили – лёгкие, молодые, желанные – на своих станциях и полустанках и пропадали снова в пучине своих забот, тревог, дел… Вновь взваливая на свои тёплые и одинокие плечи дом, детей, работу, планы, обязательства. Вновь шли спасать страну своим сердцем, любовью, терпением. Глушить делами своё воющее в ночи одиночество, мокрые от слёз подушки да искусанные простыни. И ждать, ждать своих… Обмирая и умирая каждый раз, когда вдоль улицы шла принимавшая на себя всё женщина-почтальон -мужики не выдерживали-, у которой уже не было ни слов, ни сил утешения для тех, кому приносила она, одну за одной, похоронки. Вой женский бил ей в спину, подгонял, как вихрь, и всё быстрее убегала она вдоль домов, вдоль улиц, чтобы не слышать ничего, оглохнуть на время.