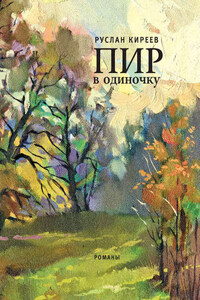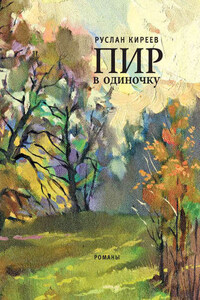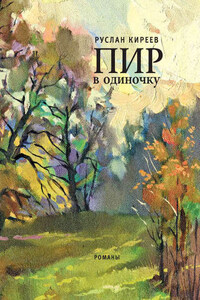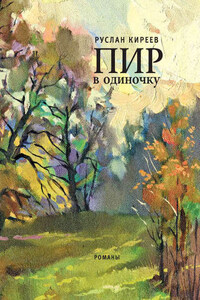Уходя, он, как тюремщик, запирает меня на два замка. Можно и на три, их три там, и все исправны, однако двумя довольствуется, верхним и нижним, хитроумно рассудив, что именно средний замок задержит в случае чего непрошеного гостя. Зря будет колдовать, позвякивая отмычками: даже самому изощренному спецу не открыть открытого… Заводит машину – двигатель тихо работает, прогреваясь, а он, мой посланник, сидит, положив на руль легкие руки, слушает мотор, потом, бросив взгляд на часы, надевает очки. Иногда быстро надевает, иногда медленно – в зависимости от расположения стрелок. Опоздать боится? О нет, опоздать не боится, просто любит отчаливать ровно в восемь… Ровно в девять… Ровно в двенадцать… Можно и в половине, но опять-таки ровно в половине или ровно в четверть, а не в шестнадцать, скажем, минут и не в четырнадцать. И дело не в пунктуальности – пунктуальность свою он не афиширует, ему по душе репутация человека малость рассеянного – дело, по собственным его словам, которые, дает он понять, отнюдь не претендуют, чтобы их принимали всерьез и так уж буквально, – дело в магии круглых цифр. Во вкрадчивой эстетике чисел (его тоже выраженьице), науки древней и темной, тайны которой, весело утверждает он, ныне утрачены.
До шоссе чуть больше километра, но быстро не проскочишь – так скверен этот аппендикс, так много здесь рытвин и бугров. Пусть! В конце концов неизвестно, что надежней охраняет мое узилище: хороший замок или плохая дорога. Сам-то он изучил каждую ямку и прекрасно знает, какую слева обойти, какую справа, а какую деликатно пропустить между колес. Словом, они отлично ладят друг с другом – человек и дорога; приятельства и даже некоторого панибратства исполнены их долгие отношения, только он, стреляный воробей, все равно не верит ей. Сколько раз убеждался в коварстве старой кокотки, особенно – после дождя, которому она сладострастно отдается! Тут уж надо смотреть в оба. Там, где накануне была ложбинка, царапина, утром разверзается хищная колдобина, благонравно замаскированная тихой, мирной, с клочками неба водой… Но и в вёдро подстерегают сюрпризики. Вот разлеглась спиленная беспардонным дачником березовая ветвь, вчера еще хоть и отделенная от ствола, но живая, листики трепетали на низовом ветру, а сегодня увяла; вот – ржавая раковина с отбитой эмалью, и не на обочине – теперь уже не на обочине, – а на проезжей части.
Посланник притормозил. Каким, интересно, образом перемещается это сантехническое ископаемое? Прежде белело, как череп, в зарослях крапивы, потом перекочевало ближе к дороге и наконец выползло, осмелев, на самую середину. Выходить из машины не хотелось, особенно с утра (дурная примета: выходить, не доехав до места), – проскользнул, ас, в сантиметре от ископаемого.
Дорога отпустила на секунду, наездник весело огляделся. День приготовился быть теплым и светлым, теплее и светлее обычного, рядового, среднего дня этого времени года – времени тяжелых облаков, листопада и первых ночных заморозков. Еще зелены деревья, георгины цветут (я не люблю георгины), на яблонях желтеют крупные плоды. Крупные, потому что мало: неурожай, и все же на заднем сиденье – три полных целлофановых пакета, два больших и один поменьше… Почудилось даже, что пропорхнула бабочка, а в следующее мгновенье – и уже не почудилось, уже точно! – толкнулся в стекло шмель. Да, день начался славно, что-то хорошее суля, но выехавший навстречу ему ничего особенно не предвкушал и ничего не загадывал. Любое неосторожное движение, знал он, разрушит исподволь складывающийся узор.
Он такое движение сделал: из машины пришлось-таки вылезти. Забыл, вырулив на шоссе, накинуть ремень безопасности, спохватился, когда увидел гаишника, но – поздно. Гаишник даже не свистнул, лишь небрежно рукой махнул, и нарушитель, пристроив кое-как автомобиль, юношеской трусцой побежал на расправу.