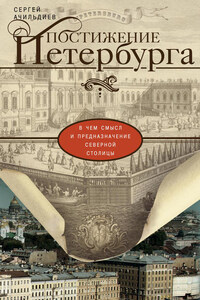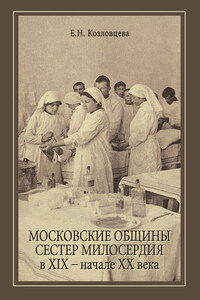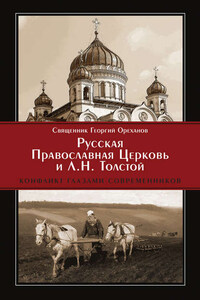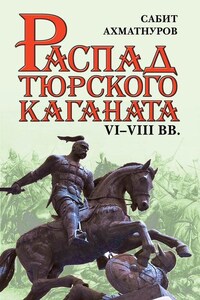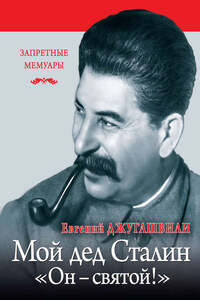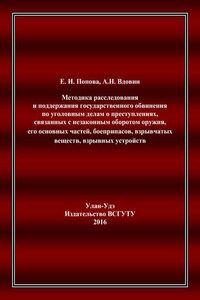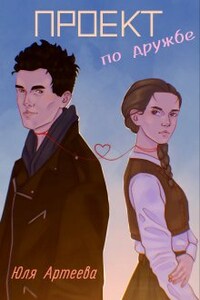Из тяжёлых, подпираемых крышами туч сеет мелкий дождичек. Резкие порывы ветра пронизывают насквозь. Температура – чуть выше нуля, влажность – под сто процентов. Идёшь, словно по дну моря. Нормальная питерская погодка…
В преддверии трёхсотлетнего юбилея города старую Сенную площадь, чрево Питера, уже начали теснить новомодные торговые павильоны с затемнёнными стёклами. Но пока здесь по-прежнему кишит народ: крикливые цыганки и небритые кавказцы, интеллигенты с пудовыми кошёлками и тихие старушки с вязаными шерстяными носками по двадцатке, бомжи и приблудные собаки. Кто продаёт, кто покупает, кто надеется на милостыню, а кто просто норовит стянуть, что плохо лежит.
Выбираюсь из этой толчеи к переулку Гривцова. Изначально он именовался Конным, и в «Преступлении и наказании» обозначен как «К-ный». А значит, вот оно, то самое место: здесь, ««у самого К-ного переулка, на углу», Раскольников случайно услыхал разговор, из которого понял, что ««завтра, ровно в семь вечера», Алёна Ивановна, знакомая ему старуха-процентщица, ««останется дома одна».
В сотне шагов – мост через канал Грибоедова, бывший Екатерининский. В романе он упоминается неоднократно и всякий раз презрительно – «канава». С тех пор вода стала чуть чище, мальчишки даже ловят в ней рыбу. Но, говорят, этот улов не едят даже кошки.
Сразу за мостом поворот налево: Гражданская улица (бывшая Средняя Мещанская) – узкая, тихая и чистенькая, впритык уставленная теми же четырёх-пятиэтажными домами.
Вот и пересечение Гражданской со Столярным переулком, а на нём то самое здание, известное как «дом Раскольникова». Тесная подворотня, на редкость ухоженный двор и ничем не приметная дверь в первый правый подъезд. Внутри – узкая крутая лестница. Тут же на стене аккуратно выведено фломастером: ««Вперёд к Роде!», – и стрелка вверх.
Медленно одолеваю первый пролёт, второй, третий… С каждым этажом надписей на стенах всё больше. На четвёртом они уже наползают друг на друга.
Самое распространённое – объяснения в любви:
««Родя – ты прикольный чел.!»;
««Хоть я не фанатка Достоевского, но я люблю тебя, Родя! Инна, 10-а»;
««Пусть всегда будет Родя!»;
Ему, кумиру, здесь адресованы целые лирические послания:
««Родя! Это место твой храм…Мы поставим свечку в твоём храме. Свеча погаснет, но её свет останется в нас. Он вечен, как вечна жизнь. Ты бессмертен»;
«За ни за что тебе спасибо,
за ни за что тебе, мой друг.
И, словно тень, проходит мимо
волнобаржовый бороздюк! Морозный. Псков».
Есть и явные следы молодёжной агрессивности:
«Бей старух, спасай Россию!»;
«Родя, убей мою соседку!!! P S. Пожалуйста».
Рядом краткие философские эссе:
«Родя! Ты не её убил, а себя! Мурка, Ann, М.-О.»;
«Раскольников тоже не знал, зачем он шёл к Сонечке – ему нужны были её слёзы… Маша»;
«Дорогой мой Родя! Ты – дурак! И зачем, зачем ты сделал это?! Но ты выстрадал – и этим возродился… Твои Наташа и Катя!»;
«Родя, не обманывай себя, ведь ты любишь смерть, я тоже её люблю» (ниже приписка: «Ну и дурак»).
Наконец, под самой крышей, – низкая дверь. Та самая, за которой в каморке, более походившей на шкаф, обитал Родион Раскольников. К этой двери ведут тринадцать ступеней, отделяющие каморку от последнего, четвёртого этажа. Сразу вспомнилось: «Он… прислушался, схватил шляпу и стал сходить свои тринадцать ступеней». Справа от косяка старательно выведено белой краской: «Ждите меня, и я вернусь. Вернусь однозначно! Родя».
Берусь за дверную ручку и осторожно тяну на себя. Нет ни каморки, ни «трёх старых стульев, не совсем исправных», ни «крашеного стола в углу», ни «неуклюжей большой софы». Только укрытый полуистлевшими тряпками полосатый матрас, пустая водочная бутылка, пара грязных тарелок и уходящий куда-то вдаль засиженный голубями чердак: бомжеубежище.