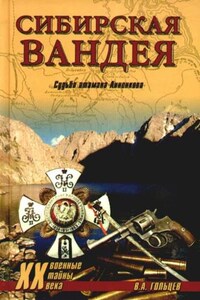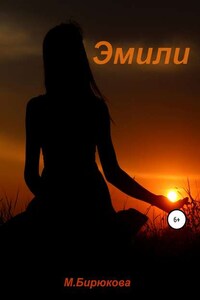Мы сидели на кухне и добивали партию в «Эрудит». Была такая настольная игра (она, кажется, есть и сейчас), в которой участники из доставшихся им букв должны составлять слова, пока на доске не появится лабиринт из существительных, напоминающий кроссворд. «Эрудит» считался игрой интеллектуальной, и его выставляли на стол, когда в доме собирались люди, считающие себя интеллектуалами. Поскольку других у нас не бывало, в «Эрудит» играли почти каждый вечер. Вот и сейчас – игра подходила к концу, у папы осталось только три буквы, я их запомнил хорошо: «Н», «С» и «Ы». Он думал минут десять, но слово не складывалось. В конце концов я не выдержал:
– Попробуй слово СЫН!
– Сын? – Он недоверчиво посмотрел на меня, потом на доску, составил слово, снова задумался. – А что такое сын? – вдруг спросил он после паузы и поднял на меня полный недоумения взгляд.
Вокруг засмеялись, я обиделся, потому, что он не шутил – он действительно не очень хорошо знал, что такое сын. Но он знал нечто более важное, в том числе обо мне. Правда, понял я это гораздо позже.
Первые воспоминания об отце – это человек в фиолетовом трико на сцене какого-то вильнюсского театра и мой потрясенный крик, возмутивший чопорных литовских искусствоведов: «Мама, почему папа синий!».
Потом были короткие встречи в залах ожидания аэропорта – отец работал в Каунасе, мы жили в Вильнюсе, и мама, когда шла повидать его между гастролями, брала меня с собой. Они разговаривали по-литовски, я почти ничего не понимал, но ловил каждое слово и млел от вопросов типа: «Как дела в детском саду?» (Это спрашивалось по-русски).
Когда я немного подрос, отец, начал брать меня с собой в деревню, куда приезжал уже из Москвы. Как правило, поездка начиналась с объявления «литовской блокады», то есть, со мной переставали говорить по-русски. Здесь не было никакого националистического и даже педагогического подтекста, думаю, папа просто так понимал методику изучения языка «с погружением». Я держался несколько дней, поскольку при всей благородности цели, средства казались мне оскорбительными, но потом санкции начинали сказываться – моя «международная изоляция» становилась невыносимой, приходилось ассимилироваться. Но обида, конечно, оставалась.
По-настоящему мы познакомились уже в Москве. После консервативного, буржуазного по-советски и провинциального по-европейски Вильнюса, после квартиры, где телефон звонил раз в трое суток, и это считалось событием, а день завершался по окончании программы «Время», я попал в торнадо, центром которого стала двухкомнатная квартира на Пролетарском проспекте. Мне казалось, что вся культурная жизнь Москвы, да и светская тоже крутится вокруг нашего дома. Клубы вредного сигаретного дыма, гости – как непременная часть меню к ужину, очень много новых слов и – телефон на длинном шнуре, из которого каждые три минуты кто-нибудь требовал Гедрюса. Если папа сам снимал трубку, разговор обычно выглядел так:
– Алло!.. Здравствуйте!.. Да, здравствуйте!.. Да, конечно!.. А-а-а, здравствуйте-здравствуйте, рад вас слышать, ну – рассказывайте! – Далее шел оживленный диалог с хихиканьем и обменом новостями, после чего отец прощался, «целовал» собеседницу, клал трубку, и задумчиво произносил:
– Какая Катя? (Валя, Нина, Наташа).
Там же, в Москве, я понял, что жизнь, настоящая жизнь, после программы «Время» не заканчивается, а наоборот – только начинается. И еще я узнал, что мой папа – «маэстро». По крайней мере, так, полушепотом, его называли импульсивные тетеньки без возраста, заполнявшие все околотеатральное пространство. Часть их благоговения перепадала и мне, что справедливо. Сын режиссера, да еще главного, да еще гениального – это не просто родственник. Это человек (пусть маленький), который обладает привилегией находиться на одной жилплощади с творцом, зовет творца на «ты» и, возможно, даже знает тайну рождения шедевра, потому что наверняка, хотя бы раз видел этот процесс своими глазами. А потому мне всегда были рады, дарили машинки, удивлялись цвету волос, умилялись сходству с кем-нибудь из родителей и восхищались тем, как я быстро взрослел.