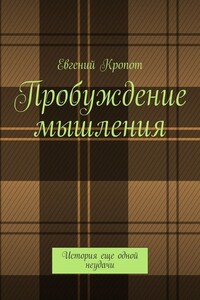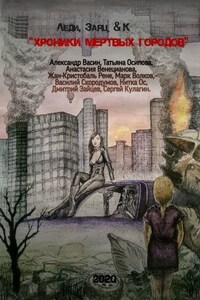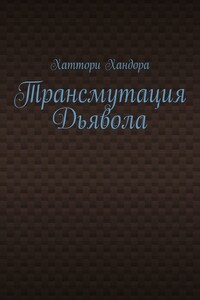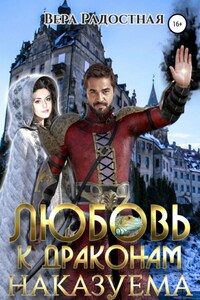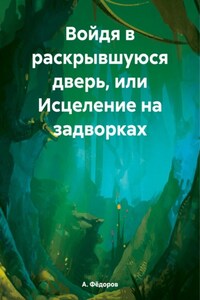Давным-давно, когда мир еще был осенен присутствием Его, в маленьком северном городке жил-был мальчик. Это был совсем еще маленький мальчик, когда пришла весть о Его тяжелой болезни. И это была совершенно неправильная, невероятная весть, которая наутро должна была исчезнуть, смениться правильной, о том, что Он полечился и уже здоров, но она повторялась в своей невероятности вновь и вновь пока не стала вестью о Его смерти. Теперь говорили, что Он умер. Он, который не мог умереть, и пошли газеты с Ним в черной рамке и со словами – от них так легко бежали у мальчика слезы, слезы по Нему и по собственной жизни, должной вот-вот остановиться тоже, как и все-все другие жизни, ибо не уберегли. И мальчик просил боженьку в углу забрать его жизнь поскорее – он устал уже плакать. Но мамка с папкой пошли снова на работу, а бабушка пыталась впихнуть ему в рот напеченных пирожков: «Ешь давай, внучек, а то загнесси!» Все они как будто не знали того, что совершенно точно знал он: нельзя жить в мире, где нет Его.
Также довольно давно одному юноше довелось оказаться совсем на Севере, там, где «кругом сплошные лагеря». Только в них сплошняком было пусто: чистенько убрано, свеженько побелено, но пусто. А те, что в них когда-то сидели, жили теперь в своих домах вокруг, вместе с местными, что их тогда охраняли и получали за это зарплату. Как водится, за стол садились тоже вместе, разливали по кружкам и первым делом поминали Хозяина. Заводили разговор местные про то, как при нем было: и дроби-пороху давали, и снабжение вообще не в пример, да и зверя-рыбы в тайге тоже, при том, что народу раз в десять или сто здесь было поболее, и все потому, что порядок был, и каждый знал свое место.
– А деньги, слышь, за что платили? Эти бегали, а мы их ловили. Почитай, «за так», значит – куда им от нас. Да и бегали лишь в лето, а в осень-зиму никогда. «За так», почитай, а деньги хорошие.
Те, у которых место тогда было в зоне, кивали согласно головами и вспоминали иных, кто побежал и сгинул в тайге и кто не бегал, но все одно сгинул. И тоже соглашались, что теперь ни пороху, ни рыбы, ни денег – и все потому, что порядка нет, люди своего места не знают.
– Вон, геологи носятся по тайге на своих амфибиях, прости господи, все зверье распугали, а уж денег у них, денег-то… Недавно на Печоре, говорят, баржу с пивом в абордаж взяли, все пиво и вино к себе увезли и враз расплатились. Это ж какие дуровые деньги надо иметь, чтобы баржу купить? Нет, Хозяин скоро бы место им определил, таким самовластным.
Впечатлительный юноша тоже пил за Хозяина и знал совершенно точно: жить так нельзя, что Хозяина надо было кончать, если не в колыбели, то году в тридцать третьем точно. И он бы это сделал сам, нашел бы как, если б там оказался. Прикончил бы, и вместо всех этих лагерей – тайга нетронутая, и жизнь нормальная, и никто б теперь не помнил того Усатого. Также люди сидели бы за столом и разговаривали, но за спиной у них было бы другое прошлое.
Юноша совершенно точно знал, как нужно было сделать этот мир нормальным и счастливым тогда, но не знал, как поправить его теперь, какой такой винт в нем повернуть, чтоб он на верную дорогу выбрался, а что винт этот существует и человеку доступен – сомнений не имелось. Надо было только поискать хорошо.
– — – — —
– Это должно быть про «детство, отрочество, юность» твоего философа? Не очень вразумительно, но придурь уже тогда заметна.
– Ничего никакая не придурь. Впечатлительный был просто.
– — – — —
Поехал тогда юноша в университет учиться философии, чтоб разобраться с устройством мира этого. Может и поправить потом, где нужно, или другим указать, как им надлежит поворачивать мир к счастью. Но разбираться там оказалось некогда: надо было сессии сдавать, водку пить и, главное, искать достойное место в самом высоком в этом мире университете. Забот невпроворот, и потом оттуда мир показался совсем не так плох: пожалуй, только дураков в нем могло быть поменьше, а денег у хороших людей побольше.