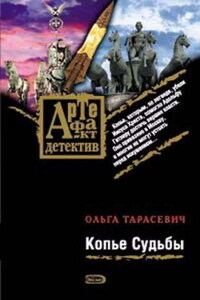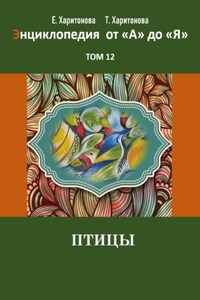Кристиания[1], 1879 год.
Он напился допьяна! Иначе как можно объяснить, что на Карл-Юханс-гате,[2] возле круглого здания стортинга,[3] напоминающего толстяка с короткими ручками, показалась хитрая мордочка тролля.
Эдвард Мунк замедлил шаг и потер глаза. Тролль противно хихикнул и исчез в постаменте одного из каменных львов, установленных у фасада.
«Надо поесть», – решил Эдвард и заторопился домой, в Гренланд.[4] Хотелось баранины в капусте или мяса на палочках. Дразнящие запахи неслись из ресторанов, наполняя рот слюной. В карманах штанов, как обычно, не было даже нескольких эре. Домой…
Он миновал Кафедральный собор, взмывающий в ослепительно-синее небо восьмигранным шпилем. Пробрался через суетливую толпу у Центрального вокзала. Пару минут поглазел на витрину рыбной лавки. В корзинах вздрагивала жирная сельдь и превосходный лосось.
– Заходите, у нас есть свежая треска, – вкрадчиво произнес вдруг появившийся за спиной приказчик.
И тут же замялся, разглядев потертый плащ Эдварда.
Юноша гордо вскинул светловолосую голову и, пошатываясь, зашагал вперед. Почему-то ему вспомнились строки из «Старшей Эдды».[5]
Меньше от пива
пользы бывает,
чем думают многие;
чем больше ты пьешь,
тем меньше покорен
твой разум тебе.
Когда-то отец любил читать им эдды и саги. Когда-то все было по-другому. Когда была жива мама…
На глаза навернулись слезы. Но ведь это было! Вот они сидят у камина. На коленях мамы устроилась Ингер, еще совсем малышка. Отец возится с Андреасом и Лаурой. А он, Эдвард, не отходит от старшей сестрички Софи. Потом отец раскрывает книгу, Эдвард слушает «Песню о Нибелунгах» и вместе с тем не может отвести глаз от бледного лица матери. Как она красива! Гладко зачесанные черные волосы подчеркивают белизну тонкой шейки, в карих глазах светится такая любовь, жарче, чем огонь в камине. Она юна и прекрасна. Серое лицо отца уже вспахали морщины, мамочка кажется его дочерью. Внезапно ее грудь сдавливает кашель, мать прижимает ко рту платок, и отец умолкает.
– Все в порядке, Кристиан, – говорит мама, пытаясь спрятать платок в узкий рукав черного платья. Но папа, отложив книгу, перехватывает ее руку. Эдвард с ужасом видит красные пятна на белом батисте.
Отец отворачивается к окну, где виднеется узкая полоска моря, сдавленного белыми скалами, и глухо произносит:
– Лаура, тебе надо отдохнуть.
Эдварду становится страшно. Так страшно, что он, сжимая в руке ладошку Софи, крадется к спальне матери и, приоткрыв дверь, слушает ее неровное дыхание. И опять кашель и предчувствие чего-то непоправимого…
Ее лицо в гробу было спокойным и безмятежным. Казалось, она спит. Исчезла даже тонкая складочка на лбу, делавшаяся резче, когда батист платка окрашивали кровавые пятна.
– Нет, мамочка, не уходи! Не надо!!!
Эдвард, рыдая, вцепился в края гроба. Отец, заставив глотнуть горькой микстуры, запер его в комнате, и Эдвард не видел, как уносили мамочку из их потемневшего дома.
Мамочка ушла. Но смерть и горе остались в Гренланде.
Костлявая, неумолимая старуха с цепкими властными пальцами. Она вырвала из семьи Софи. Его сестричку Софи, чистую, невинную…
Господи, если ты есть! Если все то, о чем твердит замусоливший Библию отец – правда, то почему, за какие грехи ты забрал Софи?
Ты есть? У тебя, должно быть, полно других дел. И ты не видишь, как съежилась у окна Лаура. Сестра смотрит на морскую гладь, но ничего не замечает и никого не узнает, ее глаза пусты, разум погружается в темноту.
Отца тоже больше нет. Того отца, которого он помнил и любил – веселого, придумывающего сказки и читающего эдды. Осталась тень, высохшая, почти бесплотная. Даже странно, что тень отбрасывает еще одну тень, в огоньке свечи неровно прыгающую по стенам. Сгибающуюся в раболепных поклонах. Отец все время молится. Зачем? Что толку от этих молитв?