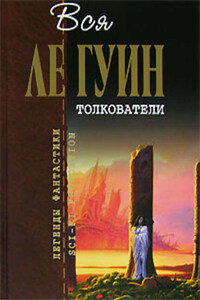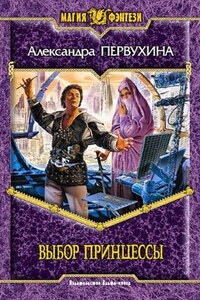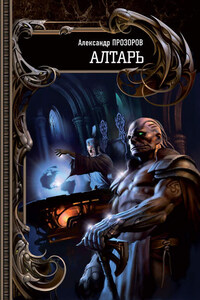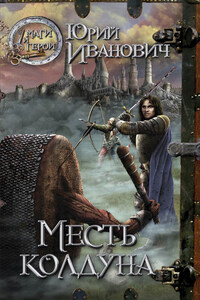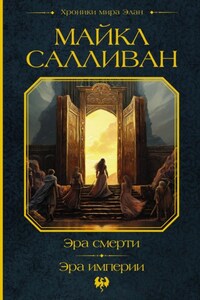Он был совсем несчастным, когда приблудился к нам. Пропащий человек, и, боюсь, те серебряные ложки, которые он у нас украл, тоже его не спасли. Особенно там, куда он отправился, сбежав из Каспроманта. И все же путь нам указал именно он, этот жалкий беглец.
Это Грай сказала, что он – беглец. Она почему-то сразу решила, что он совершил у себя на родине нечто ужасное, убийство или предательство, и теперь скрывался от возмездия. И правда, что еще могло привести сюда жителя Нижних Земель?
– Да простое незнание, – возразил я ей. – Он ничего о нас не знает, вот и не боится нас.
– Нет, он сказал, что люди его предупреждали. Говорили, чтоб не ходил в те края, где колдуны и ведьмы живут.
– Но он ведь ничего не знает о том, на что мы способны, – сказал я. – Считает это пустой болтовней, слухами, сказками…
Несомненно, правы были мы оба. Конечно же, Эммон был беглецом. И хорошо еще, если его погнала сюда честно заработанная слава вора или просто скука. Он был похож на щенка гончей – такой же беспокойный, бесстрашный, любопытный и непоследовательный – и повсюду совал свой нос. Вспоминая теперь, какой у него был акцент и какие странные обороты речи, я понимаю, что пришел он издалека, с самого юга, из краев более далеких, чем даже Алгаланда, где истории о Верхних Землях кажутся просто выдумками, старинными легендами о том, как в далеких северных краях, среди покрытых вечными снегами гор живет племя злых колдунов, которые творят немыслимые вещи.
Если бы Эммон поверил тому, что ему рассказывали в Даннере, он никогда бы не решился пойти в Каспромант. А если бы он поверил нам, то никогда не отправился бы еще выше в горы. Ему очень нравились всякие старинные истории, и он всегда внимательно слушал то, что рассказывали ему мы, но вряд ли он нам верил. Ну что ж, городской человек, к тому же из образованных, и немало бродил на своем веку по Нижним Землям. Мир он, можно сказать, повидал. А кем были мы с Грай? Что мы знали о мире, слепой мальчик и молчаливая девочка шестнадцати лет, всю жизнь окруженные дикими предрассудками, нищетой и убожеством забытых богом и людьми горных ферм, которые мы так гордо называли своими владениями? А он – в своей ленивой доброте – побуждал нас рассказывать о тех великих дарах, которыми владеем мы, жители Верхних Земель, и при этом отлично видел, какую жалкую жизнь мы вынуждены влачить, сколько на фермах искалеченных, отсталых, темных людей, сколь сильно наше невежество, сколь мало мы знаем о том, что лежит за пределами этих унылых гор и холмов. Наверное, слушая все это, он про себя смеялся: вот уж воистину великими дарами обладают эти бедняги!
Мы с Грай очень боялись, что, покинув нас, он отправился в Геремант. Тяжело было думать о том, что он, возможно, и сейчас еще там – живой, но угодивший в рабство; и ноги его скручены спиралью, а вместо лица морда чудовища, если так захотелось Эррою, или же он совсем ослеп, по-настоящему (ведь я-то был слеп как раз не по-настоящему). Ведь Эррой ни за что не стал бы терпеть легкомысленные выходки Эммона и его нахальное высокомерие. Наверняка и часа бы не вытерпел!
Я старался, чтобы Эммон и моему-то отцу, Каноку, не слишком часто попадался на глаза и не слишком распускал язык в его присутствии, потому, что терпения у Канока хватило бы ненадолго, да и нрав у него был суровый. Однако я совсем не боялся, что отец станет пользоваться своим даром без достаточно веской на то причины. Впрочем, он обращал на Эммона крайне мало внимания. Как и на всех прочих. С тех пор как умерла моя мать, он целиком был поглощен своим горем и затаенной жаждой мести, лелея эту боль, точно дитя. Грай, которая знала все птичьи гнезда вокруг, в том числе и орлиные, однажды видела самца грифа, который сам высиживал два больших серебристых яйца в гнезде на высоком утесе после того, как какой-то пастух убил его подругу, когда она полетела охотиться для них обоих. И теперь гриф высиживал своих будущих детенышей один, не сходя с гнезда и умирая от голода, – вот так и мой отец «высиживал» свою месть.