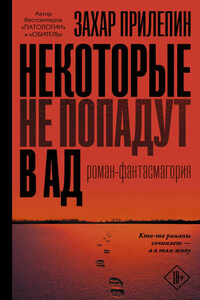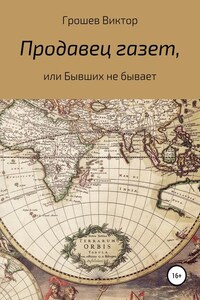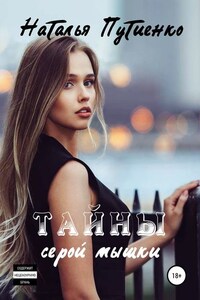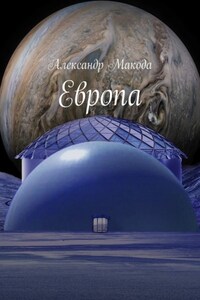Пролог.
Жизнь – это клеть, висящая на нити бытия,
И, оказавшись в ней невольно и однажды,
Ты будешь смех дарить и молодость сперва,
Пока глаза слепы и помыслы бумажны.
* * *
Проходит время, ты растешь и мыслишь,
И клеть твоя, качаясь неспеша,
Несет тебя, окутав створкой жизни,
И ты пока не чувствуешь замка.
* * *
Ты рад влюбляться, рад дружить, работать,
Смотреть на неудачи свысока,
Сквозь прутья клети ты глядишь на звезды
И думаешь: все это – для тебя.
* * *
Летят года, ты начинаешь видеть,
Как дорогие сердцу покидают жизнь,
Ты начинаешь что-то ненавидеть
И незаметно ты становишься другим.
* * *
Теперь понятно – ты не на свободе,
Хотя весь мир остался прежним, как всегда,
Но ты увидел прутья клети на затворе,
Который не отпустит никогда.
* * *
Твои друзья, твоя любовь, родные –
Они дороже стали для тебя;
Ведь птицы смерти – черные, большие –
Кружат над каждой клетью свысока.
* * *
И ты не можешь этих черных тварей сгинуть,
Не можешь уберечь родных тебе людей,
Прижавшись клетью к их, гремя железом стылым,
Обнимешь крепко их, не чувствуя цепей.
* * *
Жизнь – это клеть, висящая на нити бытия,
А птицы смерти эту нить склюют однажды,
Ты не бросай любимых никогда –
Ведь порванную нить никто уже не свяжет.
* * *
Mortalium nemo felix. – Никто из смертных не бывает счастлив (Лат.)
"Жизнь человека – клетка, висящая на нити бытия, не иначе; а иначе – я бы здесь не стоял сейчас, никто бы не стоял здесь сейчас…" – Алексей медленно повернул голову влево и сквозь густой пар, вываливающийся нагло и обильно из его посиневшего от мороза рта, увидел отца, а точнее то, что сейчас представлялось его отцом: надорванная вперед мелкая согбенная фигура прятала маленькую высохшую голову куда-то в плечи, обмотанные кое-как грязным шарфом; на эту жалкую сейчас, в свете морозного дня, головешку небрежно нахлобучена была поношенная ушанка, сильно вылинявшая и особо помятая, словно загаженная и оплёванная.
Алексей хотел было повернуться к отцу, чтобы как-то получше рассмотреть его, или, может быть, подойти ближе и прикоснуться к нему, обнять даже, но это было бы как-то стыдно и ни к месту: "… К какому же такому месту, простите меня великодушно? – если это не то сейчас место, то где же тогда это место, и есть ли вообще такое место, когда и где нельзя было бы обнять своего родного отца, батю?" – Алексей чувствовал, как что-то начинает в нем дрожать, что-то ломаться и подкашиваться; он не мог оторвать взгляда от отцовского профиля, но также и не мог больше стоять в этом жутком оцепенении, обжигающим морозной поволокой глаза, готовых вот-вот выплеснуть в невыносимое солнечное спокойствие эти чертовы постылые и никому уже ненужные слезы, чтобы, замерзнув при падении, они струей звенящего льда скатились, звонко гремя и привлекая внимание всех стоящих вокруг зияющей пастью могилы, прямо на гроб его матери, его мамы, которую сейчас будут заваливать стылой январской землей.
Вокруг черной прямоугольной ямы, так ярко и контрастно обнажающей свой погребальный зев на фоне белой мантии блестящего и слепящего глаза снега, куце толпились, плотно прибившись друг к другу, людские фигуры. Они стояли почти недвижимо, и только изредка застоялую церемонию нарушали внезапные качания и притопывания озябшими конечностями. Люди были одеты в темные теплые одежды, и, продрогнув, уже, видимо, насквозь, они комично пытались спрятаться как можно глубже в недра материи, напоминая собой озябшие кегли.
Лица присутствующих замершими неподвижными масками выдыхали пары; на лицах этих не было ни скорби, ни печали, ни какой либо вялой эмоции сочувствия – один лишь отпечаток лютого мороза: всем хотелось поскорей убраться отсюда в тепло, и там уже, отогревшись, расшевелиться, наесться, напиться и дать волю уже согретым брожениям плоти, дать вырваться наружу страху и любопытному лицемерию, что так основательно спрятались в них с тех самых пор, как обезьяна впервые встала на ноги, чтобы посмотреть – нет ли кого поблизости.