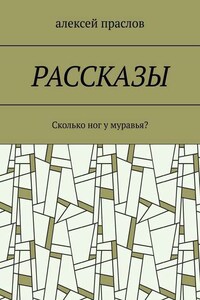Пётр Иванович Жаров схоронил свою жену в начале весны. Место на кладбище досталось им, он считал, хорошее. Всего сто шагов от входа и налево у самой ограды-стены – её могила. Поначалу эта стена раздражала его. Голая неоштукатуренная кладка кирпичей с потёками раствора своей казённостью сбивала с тихого печального настроя. Но к лету она затянулась плющём, расцвела весёлыми вьюнками и, словно, подобрела. А краснота кирпичей, кое-где проглядывавшая сквозь густую вязь плюща да шалашик из старой коричневой жести, который венчал стену по длине, даже добавляли домашности и уюта. Это успокаивало Жарова, стройного седого и всё ещё красивого старика. Тёплый зелёный июнь смягчил его, понемногу выманил из ожесточённого безразличия к себе и к жизни вокруг, в которое он впал после смерти жены, но не разбавил тоску по ней. Ему было одиноко.
В прошлый свой приход Пётр Иванович заметил, что через ряд, тоже у стены, появилась новая могила. По утрам в этом уголке кладбища тень, и бледно-голубая оградка из торчащих вверх тонких пик, памятник такой же окраски чётко рисовались на тёмном фоне зелени. Тогда, перед уходом, Жаров поинтересовался «соседкой». Покойница и вправду оказалась женщиной. Совсем молодая, в гимнастёрке с лейтенантскими погонами, из-под пилотки – чубчик кудряшек, красивая.
– Жить бы да жить тебе. – вслух пожалел её Пётр Иванович. Он глянул на даты под фотографией и удивился. Оказалось, что она всего на шесть лет моложе его. Как покойница жена. «С войны фото.» – догадался он и опять вслух проговорил:
– Всё равно жаль!
В этот раз он пришёл рано, по холодку, ещё не было шести. У новой оградки, вцепившись обеими руками в тонкие пички, стоял мужчина. Жаров видел его со спины. Длинный светлый плащ, тёмная полоса выбившегося шарфа и седая голова. Старый, одинокий и, наверное, больной, раз в жару в плаще, человек. Жарову захотелось посочувствовать ему. Горяча, свежа была и его боль и до сих пор хотелось чьего-либо участия. Что плохого в том, что старик пожалеет старика, человек человека?
Проходя специально мимо, он кашлянул, чтобы обратить на себя внимание. Мужчина шевельнулся. Пётр Иванович прижал руки к груди и сделал лёгкий поклон в его сторону. На мужчину он не смотрел, боясь увидеть в чужих глазах тоску и растерянность, от чего и сам ещё не избавился. Чуть постояв с опущенной головой и ещё раз поклонившись, он повернулся уходить, но резкий громкий стон остановил его. Жаров оглянулся. Зацепившись воротником за пичку, мужчина висел на ограде. Крепкая ткань плаща не дала ему опуститься на землю, и он завис со вздёрнутыми вверх от натяжения рукавами, как распятый. Застёгнутый ворот упёрся в подбородок, запрокинул потное, с открытым ртом, лицо. И Жаров узнал его:
– Капитан!
Тяжёлая усталость, как наброшенная сеть, мгновенно опутала его…
…Так называемый Госфильтр Пётр Жаров проходил в небольшом городке под Москвой. Молодой лейтенант, сковыривая прыщи на подбородке, смотрел на Петра виновато и уважительно. Спрашивал тихо, как бы извиняясь, записывал неторопливо ответы и опять поднимал лицо к стоящему напротив Петру. Жаров, напуганный рассказами о проверке, совсем успокоился и отвечал честно, не утаивая и не сглаживая даже те мелочи, которые могли ему навредить и о которых можно было умолчать. За два года и девять месяцев он много думал о том, виноват ли он, задавал себе вопросы, какие, как он предполагал, зададут ему по возвращении его из плена, находил на них достойные и, главное, правдивые ответы и уверился в том, что никакой вины за ним нет.
Петру нравился тихий, уважительный лейтенант. Делал своё дело человек спокойно и уверенно, и проверяемый, Пётр чувствовал по себе, принимал это, как необходимую формальность.