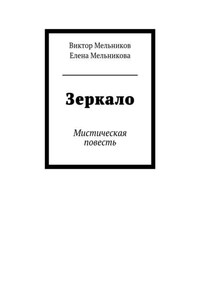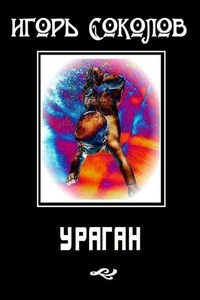Женщина умирала.
Она точно знала это и, как ни странно, совершенно не боялась смерти. Напротив, ныне та виделась избавлением, что от мук душевных, что от телесных.
Тело предало первым.
Расползлось, растеклось жиром, и теперь, глядя в зеркала, женщина не узнавала себя саму. Она отказывалась верить, что вот эта неопрятная толстуха с седыми волосами – и вправду она, прекрасная Маргарита.
Теперь она как никогда прежде походила на матушку.
Однажды, поддавшись гневу, она едва не приказала избавиться от зеркал, но после передумала. Зеркала не виноваты. Они остались, а женщина научилась видеть в них исключительно то, что сама желала. Нельзя обманывать себя? Что же ей еще оставалось? Смириться? Отступить в тень и тихо доживать дни, которых оставалось, пожалуй, больше, чем того желали многие из тех, кто называл себя ее друзьями.
Она верила.
Знала, что за спиной ее смеются, называют развратною старухой, не понимая, что в душе своей она как раз-то молода… душа – единственное, что осталось прежним.
А тело вот-вот сгорит в лихорадке.
И доктор подносит воду с уксусом, уговаривая выпить. Жажда и вправду мучит нестерпимая, но женщина капризно отворачивается. Она слушает и уговоры, и мягкий голос священника, который волею своей отпускает все грехи. И думает, что грехов набралось немало.
Пускай.
Если Господь и вправду милосерден, то простит… простил же он матушку, которая сотворила многое из того, о чем сама женщина и помыслить не смела.
Может, в том ее беда?
Чересчур мягкотела, мягкодушна… будь по-другому, глядишь, все сложилось бы иначе.
Вздох.
А в груди жжет, как тогда, когда она оказалась на Гревской площади и матушка колола в бок булавкой, шепча:
– Улыбайся.
Голос ее, тихий, не голос – но змеиное шипение, – до сих пор стоит в ушах. А с ним оживают воспоминания.
– Прочь, – просит женщина, но ее-то шепот не слышен.
Проклятье ее жизни, даже когда она кричала, ее не слышали. А теперь уж… собрались у постели, смотрят, ждут, когда она, Маргарита Валуа, испустит последний вздох, и тогда объявят о смерти.
Обрадовался бы Генрих, бывший супруг, когда б случилось ему дожить до нынешнего дня?
С ним не получилось стать женой, но вот другом он был неплохим… быть может, опечалился бы, а может, вздохнул бы с немалым облегчением, поелику пока была жива она, Маргарита, то и собственный его трон представлялся шатким.
Находились те, кто утверждал, что будто бы после развода он и права на сей трон утратил, и пусть голоса их были слабы, но все же… все же Франции достаточно малого повода, чтобы вновь вспыхнула война.
Вдова его, конечно, обрадуется… ей охота быть единственной королевой, но не в силах ее выслать Маргариту из Парижа. Приходится улыбаться.
И быть вежливой.
В ту первую встречу, которая почти стерлась из памяти Маргариты, королева не пожелала выйти навстречу той, кого, не стесняясь, именовала распутницей, будто у самой ее не было грехов. Она потребовала, чтобы именно Маргарита явилась пред ее очи…
Стыдно было.
И обидно.
И если бы не Генрих, в котором осталась еще благодарность за свое спасение, как бы все повернулось? Он выговорил своей супруге, и та затаила обиду…
Давно это было.
И Генрих мертв, как мертвы и братья, и матушка… и тот, о ком Маргарита почти забыла за эти годы.
Прочие… любовники, которых было не столь уж много, как о том говорят. Вспомнят ли? С печалью, со смехом… Маргарита знает, что над ней часто смеются.
Пускай.
Но найдется ли хоть один человек, который будет искренне горевать о смерти ее?
Маргарита улыбнулась: она знала ответ.
Она скончается 27 марта 1615 года, в собственной постели, завещав остатки своего состояния единственному человеку, которого любила всем своим сердцем, и он отвечал ей столь же искренней любовью. Он будет вспоминать о женщине, пусть и немолодой, некрасивой, но неизменно яркой, преисполненной радости, и после того, как станет королем, Людовиком XIII.