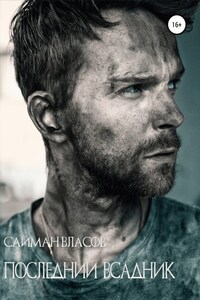Сразу видно, баба не местная. Ни в степи, ни в болотах женщины такую одежду не носят. Сапоги у нее по ноге, в обтяжку, какие-то нарядные. Сама в юбке. Юбки официантки носят в чайной. Замужние казачки их по праздникам надевают. У неё юбка едва до колен. Между сапогами и юбкой колени видны. Сидит, нога на ногу. В такой юбке в КХЗ не залезешь. Или она её подбирает? Тонкая кофта, с высоким горлом, в обтяжку. Всё на показ. Не стесняется. Да и вся она не такая, к каким он привык. Не такая, как крепкие казачки или уставшие и худые китаянки. Пальцы тонкие, ногти красные, икры даже в сапогах видно накаченные, а щиколотка тонкая. Волосы самые светлые, что он когда-либо видал. Только у детей светлее бывают. Городская. И красивая. Села совсем рядом с его кроватью, пахнет удивительно. У казачек таких запахов не бывает.
– Панова, – представилась она и протянула руку.
Непривычно это.
Одна фамилия, не имени, ни отчества. В руках планшет-доска, на нём белый лист – бумага, вещь недешёвая.
Неприлично на неё пялиться, подумает чего ещё. Аким смотрит на мужчин. Один в эластичном костюме, виски седые, выбрит чисто, стрижен коротко, как военный, серьёзный. У другого и вовсе на мундире капитанские погоны, а на лычках знак медика. Только не верится Саблину, что он доктор. Глаза у него, не глаза, а сталь. Вопросы задаёт – как гвозди вбивает. Хотя всякие доктора бывают.
Женщина достаёт из ранца два оранжевых шара, кладёт на полку рядом с его кроватью. Саблин знает – апельсины. И ещё два шара, правда, неровной формы, они красные с жёлтым. Этот плод ему неизвестен.
– Вам, – говорит она.
Он невольно глянул на неё. Тонкая вся, гибкая и кажется сильной при этом. Да, красивая. И сказал:
– Спасибо.
Обошёлся бы он, конечно, и без этих плодов. Впрочем, дети будут рады. А вот он этим гостям особо не рад. Замордовали его гости. Жену-то, рыдающую и жалеющую, то упрекающую и злую, да детей ещё как-то терпеть можно, а вот остальные порядком надоели. Казаки придут, сядут. Один про здоровье интересуется, остальные молчат, ждут, что он им расскажет, как всё было. Сами с расспросами не лезут, но по мордам видать, всем им очень интересно, как так случилось, что казаки промеж себя войну открыли.
А Саблину охота про то вспоминать? Охота вспоминать, как он своих однополчан без жалости бил?
Говорят, Марья Татаринова приходила, хотела к нему пройти, слава Богу, её фельдшер не пустил. Прошла бы сюда, села тут, рыдать бы стала. Вот что бы он ей сказал? Что мужа её пришлось убить, когда он умом тронулся и братов бить начал. Убить и в болоте бросить плавать. Нешто так казаки поступают? Нет, не поступают.
А ещё к нему повадился подъесаул Щавель ходить, с ещё одним подъесаулом Волковым из особого отдела полка. Никодим Щавель и сам въедливый, а этот Волков так ещё злее. Сидит, головой кивает, слушает, вроде, добродушный, вроде, понимает, а потом начинает вопросы задавать. И так их задаёт, как будто подловить на слове желает. И за шесть дней они к нему восемь раз приходили. И каждый раз об одном и том же, об одном и том же спрашивают, спрашивают, спрашивают. Век бы их не видеть. Как хорошо, что Саблин додумался – башку этой странной твари привёз, как хорошо, что планшет переделанного у него в лодке нашёлся. Не будь этого, несдобровать ему. Ей Богу, несдобровать. Он надеялся, что Юрка, как говорить сможет, его рассказ подтвердит. Да только, что он подтвердит. То, что Татаринов рехнулся. Дальше-то он не помнит.
Станичные старшины тоже приходили, отцы-старики, мрачные сидели у него, слушали. Послушав, решили казаков на место боя оправить, павших найти да слова Саблина заодно проверить.
Да разве в болоте сыщешь мертвых, их уже рыбы да звери на клочки разорвали. Но вот глиссер переделанных нашли взорванный, лодки разбитые тоже. Оружие переделанных и казачье было. Вроде, не врал Саблин. Но всё равно непонятное дело выходило. Непонятное.