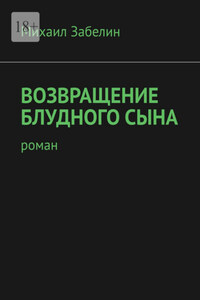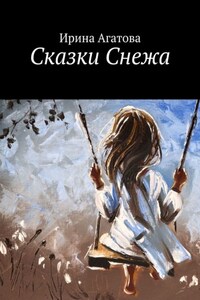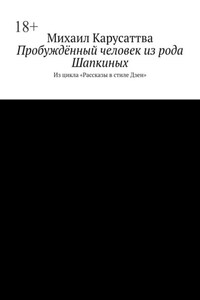Марья Михайловна гремела кастрюлями на кухне. Сочиняла симфонию из звенящих и ударных. Добавляя скрипы и скрежеты, хлопанья дверцами, треск, нет – звон, мелкой утвари – ножей, ложек и вилок. Бахнула половником по дну жестяного таза. Громыхнула стопкой тарелок по столу. Зазвонила кружками, чашками, фужерами и стопочками. Безобразие и какофония, но если прислушаться, то ритм все же имел место быть. Джазовый, тонкий, свободный от нотного стана, еле уловимый непрофессиональному уху. Высокое искусство. Чванливое и элитарное.
Марья Михайловна была резка, но без дерзости; строга, но без авторитаризма; изобретательна, но без фальши. Для поэтики и поэтизма добавляла то и дело к гремящим и звенящим – струящиеся и шумящие водой из-под крана. Но воду эту самую экономила, берегла, а потому включала довольно редко, но крайне метко. Для усиления собственных позиций иногда добавляла гул кухонной плиты после удара сковородкой.
Марья Михайловна танцевала. Ее тело плыло в узком пространстве кухонных столов и шкафов, меж запахов остатков на тарелочках, на лопатке в кастрюльке и чуть подсушенного хлеба, остывавшей печи, кориандра, базилика и половинки луковицы у раковины. Двигалась еле заметно, еле слышно, чувственно – словно сама вся – запах, аромат, эфир танца. Ее тело, поддавшееся возрасту и лишениям, тяжелым мыслям и столь частым в ее жизни слезам – оставалось живым, подвластным музыке, ее – музыки – продолжением и следом. Танец был лишь частью мелодии, нотами в пространстве, рисунком сбивчивого, но сильного, с нажимом, сердечного ритма женщины.
Марья Михайловна пела взглядом, скользившим по блестящим кружкам и тарелкам, взглядом, довольным отражением на старой, проверенной, но все еще очень дорогой посуде. Ее голос играл краешком уставших, но не потерявших своей яркости и выразительности глаз, переливами ресниц, тонких, аккуратных бровей. Каждое движение ее тела, ее фигуры было продолжением движений взгляда, движений губ – беззвучно вторивших мелодии кастрюль и ложек.
Марья Михайловна – но в этой части города, материка, солнечной системы ее все уже давно звали Mme Marie – знала свое дело, ведь проработала гувернанткой, посудомойщицей, прислугой уже много лет. Мадам Мари считала, что только трудом, тяжелым трудом она сможет отблагодарить небо за этот город, за эту широкую кухню большой квартиры на три этажа, за добрых и приветливых хозяев, за свою комнатку и возможность наслаждаться видом на старинный парк из ее маленького окошка. Отблагодарить за возможность забыть, попытаться забыть долгую, тяжелую дорогу сюда, на которой Мария Михайловна оставила многое, почти все.
Валид Хассан сидел на маленьком стульчике в темной крошечной каморке. В коридоре за дверью стоял сумрак одинокой лампочки, но комнатка, в которой тихо сидел марокканец, была так мала, что та незначительность лучей, что пробивались сквозь узкие щели между закрытой дверью и дверным проемом, хорошо освещала и кабинет, и его хозяина. Стул занимал почти все пространство, оставляя лишь место для ног сидящего да угол для швабры и двух ведер, сложенных одно в другое. Валид прижался к стене, закрыв глаза. Он слушал, он наслаждался звуками симфонии, что доносились с кухни. На лице марокканца застыла блаженная улыбка. Музыка будоражила воображение, но больше – тот танец, те движения женщины, что за ними скрывались, как за символами. Хассан, зрение которого уже давно нельзя было назвать хорошим, видел Мадам Мари отчетливо. Кастрюли, половники, маленькие и большие сковородки, вилочки, и ножички, и чайные ложечки – марокканец видел каждое прикосновение посудомойки к каждому музыкальному инструменту, каждой струне.