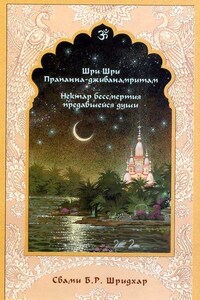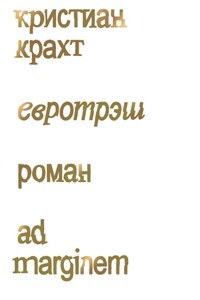Фельдмаршал умирал. Лейб-медик Виллие, доктор Гуфеланд и русский врач Малахов стояли у постели умирающего и глядели на это большое и грузное тело, когда-то могучее и стройное, теперь бессильно распростертое на широкой немецкой постели. Они говорили между собой по-латыни, но фельдмаршал понимал латынь; его полузакрытый глаз глядел на них строго, чуть насмешливо.
Был девятый час вечера. Единственное окно небольшой комнаты завесили плотной суконной шторой. Перед домом настелили солому, чтобы звон подков и стук колес не тревожили умирающего. На улице стояла молчаливая, неубывающая толпа – жители Банцлау, маленького городка в Силезии, которому суждено было стать местом кончины Кутузова.
Великий человек умирал. Доктор Гуфеланд, врач-чудодей, посланный прусским королем, в изумлении смотрел на утонувшую в подушках, изуродованную старыми, давно зажившими ранами голову. Он разглядел след первой жестокой раны, – тридцать девять лет назад турецкая пуля пробила левый висок Кутузова и вышла у правого глаза. Какую же силу, какое здоровье дала природа этому человеку!
Гуфеланд наклонился и рассмотрел другой, более поздний шрам. Здесь пуля вошла в щеку и вышла через затылок. Она прошла мимо височных костей, мимо глазных мышц и чудом миновала мозг.
Два раза прострелили эту большую голову, и два раза смерть щадила этого человека.
Доктор Гуфеланд взглянул на Виллие.
– Судьба берегла его для необыкновенного, – чуть слышно произнес Виллие. То были слова известнейшего врача екатерининского времени, гоф-хирурга Массо.
Необыкновенное свершилось, – Наполеон бежал из России, победоносные русские войска прошли от Оки до Эльбы, – но фельдмаршал умирал.
Знаменитые врачи вынесли свой приговор: нервическая горячка, осложненная паралитическими припадками.
Доктор Малахов, состоявший при фельдмаршале, хотя и был в невысоких чинах, но первый понял, что смерть стоит у порога. После того как у больного отнялась правая рука, он не спал. А прошло с тех пор пять долгих страшных дней и ночей. Малахов и слуга Кутузова Крупенников постоянно находились у постели больного. Вернее сказать, Крупенников сидел не у самой постели, а на табурете за ширмой, смачивая полотенце то ледяной, то горячей водой. Когда же Малахов посылал его к аптекарю, он, неслышно шагая в мягких бархатных сапогах, проходил мимо постели и открывал дверь в соседнюю комнату.
Там стояла мертвая тишина, будто не было ни души. Но комната была полна народу. На стульях, на диванах, на принесенных из комнаты табуретах сидели генералы и офицеры – запросто, без чинов. Два лейб-гренадера стояли в карауле у дверей комнаты.
Кутузов еще жил, но казалось – ветераны несут караул у смертного одра.
Едва слуга переступал порог, к нему обращались все взоры, в них была надежда, искра надежды, но он опускал голову и молча проходил мимо. Иногда чья-нибудь рука брала его за локоть, но тотчас отпускала – в глазах Крупенникова блестели слезы.
В полутемной комнате нижнего этажа его ждал аптекарь.
– Фельдмаршал изволит принять порошки? – спрашивал седовласый аптекарь.
Спустя несколько минут люди, собравшиеся перед домом, уже знали, что фельдмаршал принял порошки. Чуть позже эта весть разносилась по всему городку. Было известно также и другое: фельдмаршал ранее за всю свою долгую жизнь никогда не принимал лекарств.
В доме становилось тесно. Непостижимо быстро узнавал народ о болезни Кутузова. За двадцать верст стояли полки, оттуда приезжали заслуженные офицеры, герои Смоленска и Бородина, соратники по Тарутинскому лагерю, приезжали и совсем молодые люди, которых фельдмаршал знал в лицо и любил за отвагу и живость характера.
Рассказывали о том, как горюют солдаты, прослышав о тяжкой болезни фельдмаршала. Вспоминали о том, когда отчеканили медаль с всевидящим оком в память двенадцатого года; солдаты говорили, будто это око самого Кутузова: «У него, у батюшки, один глаз, да он им более видит, чем другой двумя».