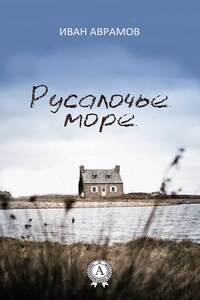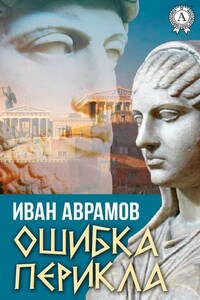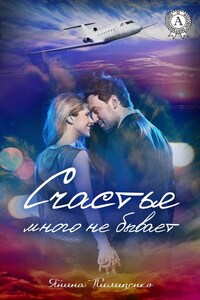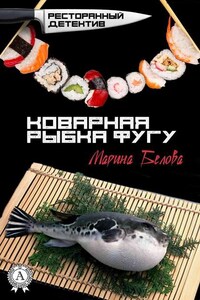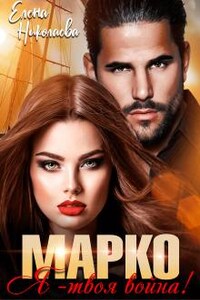Перед самым рассветом Донату Караюрию приснился его сын Васька, шести лет от роду умерший от укуса бешеной собаки.
Васька был в светящейся на солнце розовой рубахе, которую Донат когда-то привез ему из города, и, обиженно закусив нижнюю губу, смотрел на отца узкими синими глазами, печальными, набухающими влагой. Потом Васька, просясь на руки, потянулся к отцу, и Донат, мгновенно холодея сердцем, нагнулся, поднял и прижал к груди худенькое тело сына, и так, в обнимку, они побежали, вернее, бежал один Донат длинными, стелющимися, как у зверя, прыжками, словно был он не теперешним, слегка огрузневшим стариком, а тогдашним сорокалетним мужиком; Васькины волосы, неярко-желтые, как жухлая трава, выглянувшая из-под первого снега, развеваясь на встречном ветру, липли к потному лицу Доната и обдавали его сухим, пресным запахом нагревшегося на солнце голубиного оперения, и от этого детского, навсегда утерянного запаха у Доната заходилось сердце. Потом бежать стало трудно, потому что кругом расстилалось зыбкое, раскачивающееся, цветущее разнотравье заливного луга, вымахнувшее почти по пояс; это был правый берег речки, в паводок Зеленушка его только и затапливала, и теперь Донат, слыша, как рвутся под ногами, отяжеляя бег, крепкие стебли донника, и боясь, как бы не упасть вместе с Васькой, вдруг заметил, что сын захлебывается в беззвучном крике. Пробежав еще немного, Донат увидел, что вдали показалась сумрачная зелень старого кулацкого сада, уходившего вверх по невысокому пригорку, у подножия которого заканчивалась речная пойма. Как эти деревья могли расти там сейчас, Донат понять не мог, ведь сад вырубили еще до войны, за много лет до того, как Васька появился на белый свет, а потом на раскорчеванном поле стали сажать колхозную картошку, она родила там, как нигде в селе, – клубни по осени шли сплошным крупняком, «поросятами» величиной в ладонь, и все потому, что близкая низина крепко держала в земле влагу. Донат не переставал удивляться тому, что бежит к старому кулацкому саду, пока не услышал, наконец, Васькиного крика, от которого ознобно вздрогнул, успев напоследок сообразить, что и заливного-то луга никак не могло быть сейчас – когда-то Зеленушка, конечно, была полноводной, но с годами на обоих берегах повырубили деревья и кустарниковую поросль, постепенно берега распахали, и пашня мягко сдавила речку, покуда та не высохла, как рука старухи.
«Папка, – кричал Васька, – посмотри на меня, ты видишь, что я живой?»; худые руки его, охватывавшие отцовскую шею, стали неприятно цепкими и сильными, и Донат почувствовал, что задыхается. Только теперь он вспомнил, что Васька действительно давно умер; мальчик, точно догадавшись, попрекнул: «Почему ты думаешь, что я умер?» И не мог уже Донат избавиться от страшной, выматывающей душу разрыв-тоски, такой, какая бывает лишь во сне.
Он все-таки упал, потому что угодил ногой в студеное, вязкое донце берегового родника, в котором закипали, перевертываясь, рыжие песчинки, а Васька вырвался из его объятий и бежал уже далеко впереди, пропадая розовой рубахой среди жарких летних подсолнухов, часто оглядываясь, словно боясь потеряться, а, может, зовя отца за собой, и были они уже не на заливном лугу, а посреди подсолнухового поля, за которым земля, как паляница с обрезанным боком, отвесно падала вниз, к морю. «Сорвется, – страшился Донат. – Ах ты, Господи, откуда ему знать, что там сразу обрыв».
«Стой, Васька! Пропадешь!» – кричал Донат, петляя за розовой рубахой и зная твердо, что сыну нет спасения.
Зеленый свет подсолнухов исчез, глазам стало больно от белого, сверкающего блеска моря, Донат, как обезумевшая лошадь, не мог прервать свой бешеный бег и в то мгновение, когда он потерял под ногами твердь и полетел в пустоту, сердце его больно сдвинулось с места и оборвалось…