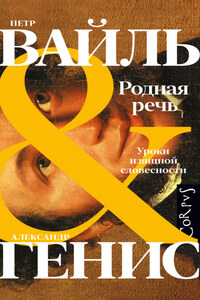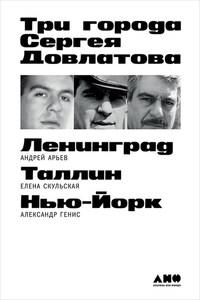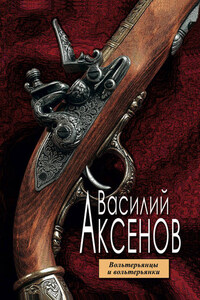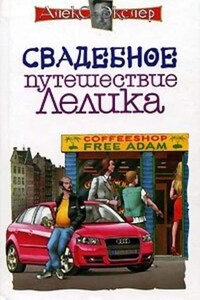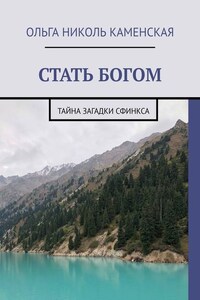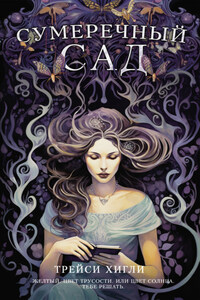Оказывается, быть одним из авторов книги, посвященной кулинарии, – непростое и ответственное дело. Сколько раз за прошедшие с первого издания годы приходилось попадать в дома, где восторженно говорили: "А у нас сегодня обед исключительно по вашим рекомендациям”. После этого ничего не оставалось, как только с лицемерным урчанием поглощать несъедобную бурду, размышляя о том, что и так, в сущности, известно: нет рецептов радости, есть умение ее создавать.
Это умение в массовом масштабе немыслимо без включения еды в общекультурный обиход. Когда в 1990 году московский еженедельник “Семья” предложил нам публиковать главы из “Кухни”, мы смутились, и не зря: письма в газету поступали свирепые – авторы, к их счастью, жили в Нью-Йорке, не достать. В том 90-м я с легкостью подсчитал весь ассортимент двухэтажного столичного гастронома “Новоарбатский”: продуктов было два (повторяю – два) – хрен в банках и в банках же икра из тыквы. До сих пор оторопь берет от безумной отваги редакции “Семьи”, не побоявшейся распространять невиданные и часто неслыханные вкусы своим пятимиллионным тиражом.
Года три назад в Новосибирске в ресторанном меню прочел: “Водная фантазия. Традиционное русское ассорти из копченой рыбы, устриц и осьминога”. То, что по сути достойно ядовитой насмешки или праведного негодования, вызывает искреннее воодушевление. Повальная кулинарная эклектика, грандиозный всероссийский fusion – огромный шаг вперед от гастрономической аскезы долгих десятилетий. Не то чтобы в России когда-нибудь переставали любить вкусную еду – но говорить об этом вслух, и тем более печатно, было не принято.
Редко бывает, чтобы у книги так кардинально изменился читатель. “Кухня” писалась в Нью-Йорке в течение 1985–1986 годов (впервые вышла в Лос-Анджелесе в 87-м). С тех пор русский читатель переменился и количественно и качественно. Ведь то, что было запрещено по политическим и идеологическим мотивам, так или иначе читалось – пусть и тонкой прослойкой, которой были доступны Самиздат и Тамиздат. Читать же, писать и говорить о еде не велено было куда более мощным запретом – давней российской традицией. Даже в русской словесности беззаботно едят, пожалуй, только герои Гоголя да отчасти Чехова. У Толстого, Достоевского и дальше, дальше – обычно едят мотивированно: идеологически, социально, классово. Любимый гурманами Гиляровский – физиология города, этнография; его застолья – общественно звучащие, жующие в такт идейным движениям. Просто писать про это не позволял принцип деления культуры на высокую и низкую. Советская власть такую оппозицию лишь закрепила. Официозный примат идейности совпал с интеллигентским кодексом духовности. Пустыня, выжженная этикетом страха и стыда, орошалась лишь обязательной бутылкой кефира (с батоном) в руках положительного киногероя, будь он каменщик, художник или физик.
Первую трещину этот монолит дал с явлением Вильяма Похлебкина в конце 60-х. Он стал первопроходцем и первооткрывателем для поколений, выросших на псевдонаучных сентенциях: “Питание является одним из основных условий существования человека”, почитавших Молоховец музейным экспонатом. Похлебкин учил не столько правильно готовить, не столько вкусно есть, сколько – вкусно и правильно жить. Эти книги непринужденно и наглядно ставили кулинарное искусство на его подлинное место рядом со всеми каноническими видами творчества.
Похлебкин опередил время. Дело сильно сдвинулось лишь в конце 90-х – в России наконец перестали стесняться говорить о вкусной еде: в изобилии кулинарные книги и рубрики в журналах, телепередачи (которых больше, чем нужно, – вечный российский перехлест).