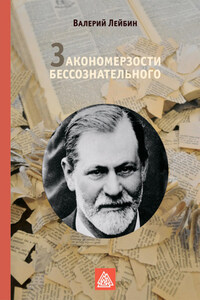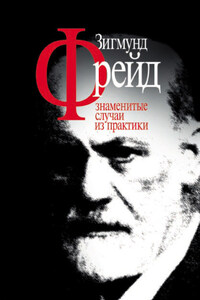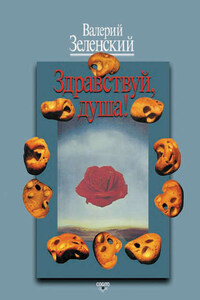Зигмунд Фрейд и Карл Густав Юнг.
Вена и Цюрих. Берлин и Москва. Женева и Ростов-на-Дону.
Разрушение и становление, смерть и жизнь.
Обрывки воспоминаний всполохом зарницы врывались в сознание Сабины Шпильрейн, вызывая в ее смятенной душе одновременно ощущения ностальгической радости и неотвратимого отчаяния.
Бюргхольцли, октябрь 1904 года.
«После моей смерти я разрешаю анатомировать только голову, если она будет не очень страшной… Мой череп я завещаю нашей гимназии. Его следует поместить в стеклянный ящик и украсить бессмертными цветами. На ящике напишите следующие слова: „И пусть играет молодая жизнь при входе в гроб, и пусть сверкает равнодушная природа вечным великолепием“. Мой мозг я даю Вам. Только поместите его чистым в красивый, также украшенный сосуд и напишите на нем те же самые слова. Тело следует сжечь. Но при этом никто не должен присутствовать».
Ростов-на-Дону, август 1942 года.
«Милые мои девочки! Как я вас люблю и как хочу, чтобы преждевременная смерть не оборвала вашу драгоценную жизнь!»
Бред? Фантасмагория? Реальность?
Все происходящее вокруг воспринималось находящейся в полуобморочном состоянии Сабиной как самый настоящий бред. Картины и образы прошлого, напротив, порождали у нее какое-то странное ощущение реальности до боли знакомого мира, становления и разрушения, жизни и смерти.
Другое дело, что жизнь и смерть оказались настолько тесно переплетенными между собой, что разделяющая их грань становилась все тоньше и незаметнее. Эта грань не только размывалась в сознании смертельно уставшей женщины, но и готова была раствориться в той непереносимой боли, которую испытывало ее изможденное тело.
Солнце нещадно светило в лицо. Пот застилал глаза и, скатываясь по лицу, проскальзывая по ложбинке между грудями, смешиваясь с лоскутками содранной кое-где на теле кожи, создавал липкое месиво, вызывающее тошнотворный запах.
Сабина всегда остро реагировала на запахи, особенно на запах человеческого тела. Но в этой обреченной толпе изможденных детей, женщин и стариков она, утратив чувствительность к запахам, с трудом плелась по пыльной дороге.
В ее голове, отдаваясь болью в затылке, пульсировала сводящая с ума мысль, граничащая с просьбой и вопрошанием. С той просьбой, которая была обращена к Всевышнему. С тем вопрошанием, которое она относила к самой себе.
«О Боже! Смерть мне не страшна. Я не боюсь ее. Но сохрани моих дорогих девочек!
Неужели этот кошмар никогда не кончится!
В чем виноваты мои дочери? И почему такое стало возможным?
Неужели только смерть избавляет от страданий?»
Последний вопрос повис в воздухе, так как, споткнувшись, Сабина чуть не упала. Идущие рядом с ней дочери, Рената и Ева, успели ее удержать и, подхватив под руки, помогли устоять на ногах.
– Мамочка, держись, – выдохнула Рената, обеспокоенно поправляя длинную юбку уставшей, сгорбленной женщине, выглядевшей значительно старше своих 56 лет. Она заметила болтавшуюся застежку на старых туфлях матери и, наклонившись, не без труда застегнула ее.
У Сабины так сильно закружилась голова, что она поспешно оперлась на руку старшей дочери, Ренаты. Нестерпимо хотелось пить, но она лишь облизала растрескавшиеся губы, не в силах произнести ни слова.
Внезапно до ее слуха донеслась немецкая речь, не сразу вернувшая Сабину к кошмарной действительности.
До чего же она любила этот язык! С каким наслаждением вслушивалась в мелодичные песни, звучавшие порой на улочках Цюриха, Вены, Мюнхена, Берлина.
Впитав в себя немецкие звуки в период своей молодости, она легко и свободно говорила на языке Гёте и Гейне, с удовольствием общаясь со ставшими для нее близкими людьми – Карлом Густавом Юнгом и Зигмундом Фрейдом.