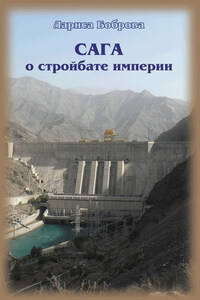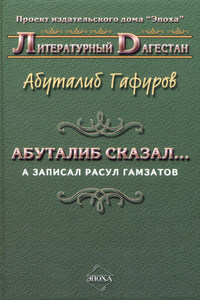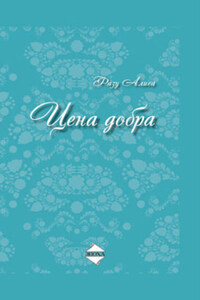Действительно – горы, достигающие купола небосвода, даже через годы, уже на равнине, будет сниться этот хребет за спиной, отделивший полмироздания. И подняв лицо к небу, ты видишь его вершины, не оборачиваясь…
Слово Тянь-Шань – знакомое с детства, его звон – округлый, не подходящий в название горам, скорее, – какой-то сфере, звонкому своду. Потом второй пласт его звучания – ну да, Китай, (только подумать – Китай!) китайское слово Тянь-Шань и означает «Небесные горы».
Острота одного московского знакомого – «Всё, что дальше Наро-Фоминска – Тянь-Шань!» То есть Тмутаракань, край света. Наро-Фоминск как горизонт, дальше – обвал, дикость.
Но это как посмотреть.
Просто другой мир. Яростно и оглушительно – другой!
Всё это было давно.
Да, дикий. Голые обожжённые скалы, кое-где тронутые растительной жизнью, упорной как нигде, стремительная и яростная река – эта дикая вода – река? Это потом, гораздо ниже, после слияния со всеми притоками, будет Сыр-Дарья, а тут ещё Нарын – стремительная, густо замешенная на иле вода цвета охры, цвета угрозы и гибели. Живая, тяжёлая, именно потому что тяжёлая и стремительная – уже как бы и не вода, а что-то живое, грохочущее курьерским поездом со скоростью восемь метров в секунду… Сколько же это в час?
В общем, немного…
Толпящиеся над обрывом ска́лы можно рассматривать бесконечно, и если движешься по дороге над грохочущей рекой, перемещаются и скалы, группируются, сходятся, расходятся – у них идет своя жизнь, отдельная, непонятная и непонятно глядящая темным наклонившимся ликом, угадываемым и уже неотвязно глядящим. И никак не избавиться от впечатления чего-то громоздко разумного и связанного, запелёнутого, заключённого в такой вот форме. «Вечная мука материи», ранее казавшаяся словесной фигурой и философской категорией – вот она, воплощённая, желающая осуществиться и выразиться…
Через три километра, пять, оглянешься – всё так же глядит в твою сторону отмеченный ранее взгляд. Но сама эта глыба, гора, это не знамо что – переместилась, подошла ближе к нескольким своим подобиям, и теперь они уже каменной бабьей группой глядят тебе вслед. И все сто километров эти передвижения, перебегания, так, и не такуже – перегруппировались, передвинулись каменные громады, сменили выражение от смены света и тени. Небольшой подъём, поворот, и та же глыба опять подошла к краю обрыва – одна, и стоит, глядит…
Подвесной мост, построенный в сорок седьмом году, о чём сообщает табличка, приваренная к одной из несущих стоек, раскачивается и скрипит, проседая, пружиня под тяжестью машины. Зачем он здесь, этот мост, среди муки каменной жизни, на осыпающейся дороге, пустой совершенно и как бы навсегда? Зачем эта дорога над пропастью с грохочущей, судорожно бьющейся внизу рекой, масляно отблескивающей на складках, гребнях и как бы втягивающей воздух стоячими воронками водоворотов, стоящими на одном месте, а значит, для чего-то нужными, вроде органов дыхания?
Перекинувшись на левый берег, дорога круто берет вверх, а на правом – на участке, видимо, совершенно заброшенном после создания моста, как раз идёт какая-то жизнь, ползают неслышимые за шумом реки бульдозеры, разгребая образовавшиеся за пятнадцать лет завалы сыпучки, а чуть дальше – вдруг взметнётся веер взрыва, с опозданием дойдёт его грохот…