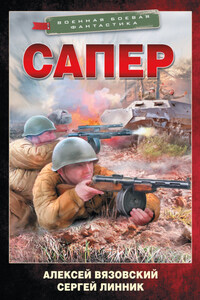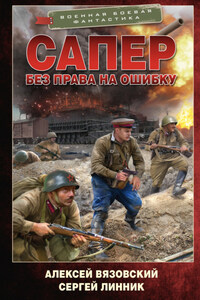В шесть утра резко и отрывисто прозвучали удары в дверь нашего барака.
– Подъем! – закричал дневальный, первым занимая очередь к параше.
Зэки, кряхтя и сплевывая на пол, посыпались со шконок. Солнце едва-едва показало свой краешек в зарешеченном окне. На небе не было ни облачка – день обещал быть жарким.
– Смотри, опять рюхаются[1]. – Пятно кивнул в сторону «политического» угла. Там у нас жили «зеленые братья». Десяток хохлов и прибалтов из УПА, Движения борьбы за свободу Литвы и прочих воинов свободы, которые досиживали свое по 58-й статье.
– Когти тебе надо рвать, Сапер, или выламываться из лагеря, – сверху спрыгнул Босой, принялся наматывать портянки. – Замочат. Зуб даю, посадят на пику.
Пятно и Босой были моими соседями по шконке. Первый имел большое коричневое пятно на лысой голове, за это и окрестили. Второй вор носил фамилию Босотов. Тут уж сам бог велел ему стать Босым или Босотой. Последнюю кличку худой, жилистый мужик не любил, сразу лез в драку. Махался он не очень умело, но активно – размазывая кровавые сопли, поднимался с пола, любил использовать грязные приемы.
Я перехватил взгляд Петлюры из «зеленого» угла. Бородатый, квадратный мужик со шрамом через весь лоб провел ногтем большого пальца по шее. Упашники вокруг засмеялись.
– Возьми на себя какое-нибудь дело, – продолжал бубнить Босой. – Отведут в оперчасть, а там ушлют на следствие в райцентр. Или больным скажись…
Из барака вышли двое. Помбригадира потопал к хлеборезам – следить, чтобы те нарезали честно пайки. Бригадир пошел в штабной барак за разнарядкой. Две последние недели мы валили деревья в густом лесу Львовщины – тут начали строить какой-то секретный объект. Обнесли два гектара колючкой, нагнали военных. Кум ходил по лагерю запуганный – по его душу приезжали из Москвы проверяющие. Никаких посылок, писем из дома – зэки жили в полной изоляции.
– Ушлют вперед ногами, – хмыкнул Пятно, натягивая робу.
– Харэ базарить, – оборвал я уголовников, разминая шею. Стычка с торпедами Петлюры могла начаться прямо у параши. Но не началась. Я спокойно оправился, умылся.
У параши уже ругались оба дневальных – кому выносить дерьмо. В барак заглянул Казах.
– Пэ – трэнадцать-трэнадцать, – увидев меня, скомандовал надзиратель. – На выход.
– С вещами или….
Я уставился в узкие глаза Казаха. На его безволосом лице не было ни тени эмоций.
– Или…
Мы прошли мимо высокого забора БУРа[2], миновали больничку. Как оказалось, Босой накаркал. Вели меня через весь лагерь в оперчасть.
Без задержки повели сразу в кабинет к куму.
– Осужденный Пэ тысяча триста тринадцатый, – начал представляться я, но меня тут же прервали.
– Садитесь, Петр Григорьевич, – молодой мордатый начальник оперчасти кивнул Казаху на дверь. – Подожди в коридоре.
Надзиратель вышел, я сел на колченогий стул, что стоял у рабочего стола опера. Звали его Подгорным Евгением Степановичем, служил он у нас всего полгода в звании капитана. Трижды мы имели с ним продолжительные беседы, в ходе которых однофамилец известного чиновника из ЦК КПСС настойчиво предлагал мне стучать на сидельцев барака. В первую очередь его интересовали политические.
– Поймите, Петр Григорьевич, – объяснял мне Подгорный. – Зэк вы авторитетный. Не в смысле вор – этих у меня полная картотека, а в том смысле, что уважаемый человек. Все на зоне знают вашу историю, ваши подвиги на фронте и где-то даже сочувствуют. Доверяют вам свои тайны.
– Стучать не буду, – сразу отказался я.
– А стучать и не надо. Надо информировать. И только о самых важных делах. Мелочи меня не интересуют. Например, о подготовке побега. Ведь если уйдут в леса политические, худо будет всем! Стукачей у меня полно, а вот правильных, толковых людей мало!