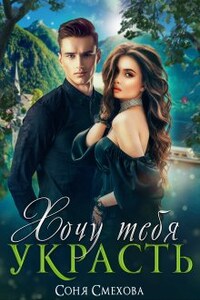СЫН СОЛДАТА.
Отца своего я почти не помню. Мне было всего два года, когда он ушел на фронт.
А потом, уже в конце войны, нам прислали похоронку. Отец погиб под Берлином…
В деревню с войны мало кто вернулся. Отец Вовки Кузового пришел без ноги. Да
еще Степан Безруков, дядь Федор Потапов и Серега, председателев сын. Вот и все. Так
что отца я почти и не помню. Хотя на стене в горнице висит большой портрет. Отец на
нем в форме с наградами, усы смешно топорщатся. Мама часто смотрит на портрет и, когда думает, что я не вижу, тихонько утирает слезы…
Но есть у меня одна тайна. Сон, который вроде, как и не сон вовсе. Снится мне, как
синева вдруг распахивается, несется мне навстречу. И не понять: то ли я лечу в небо, широко раскинув руки, то ли падаю в него… Дух захватывает! Внутри все замирает от
страха и от восторга. Чьи-то агромадные белые крылья подхватывают меня и несут, несут
куда-то. И я захлебываюсь этой синевой, искрящейся солнечными брызгами, пью ее и не
могу напиться. А потом я опускаюсь на зеленую поляну, где очень много мужчин в
длинных белых рубахах, закатанных штанах и босиком. Они все очень разные и почему-то
грустные. Хотя вокруг так здорово! Трава зеленая, небо искристое и речка где-то журчит.
Мне странно и непривычно: никогда я столько мужиков вместе не видел – у нас в деревне
в основном женщины… Все они смотрят на меня и мне становится боязно. Чего смотрят-
то? Пацан, как пацан. И я прячу за белые крылья свои босые ноги в цыпках. Чьи-то руки
подталкивают меня в спину.
– Иди, мальчик, не бойся!… Прохоров Иван Васильевич, 713-й стрелковый полк, 171-я стрелковая дивизия, ефрейтор…
Я потеряно выглядываю из снежно-белых перьев… Батя… Батя?!
Он проталкивается сквозь толпу напряженных, ждущих чего-то мужиков.
Совершенно незнакомый, высокий, худой, коротко стриженный и без усов…
Крылья, моя надежная броня из перьев, вдруг исчезают, оставляя меня один на
один с отцом. Он жадно всматривается в меня глазами цвета выгоревшего летнего неба.
– Сынок…сынка …сыночка… – хватает подмышки и подбрасывает вверх. И во мне
резко и больно толкается память… Падая на широкую, твердую, как камень, отцовскую
грудь, обтянутую белой рубахой, я вспоминаю: точно так же он подбрасывал меня на
прощанье… Кидал и ловил…И лицо его летело мне навстречу. Загорелое, еще без
морщин, смеющееся…
– Батя…– хочу сказать я, но не могу, горло сдавило, не продохнуть. Я только
вжимаюсь покрепче лицом в отцову рубаху и замираю. Боязно мне: разожму руки, открою
глаза, а отца-то и нет…
– Пойдем, сынка, пойдем…– торопливо говорит отец и несет меня на руках, как
маленького. Чья-то широкая загрубелая ладонь бережно касается моего затылка. И голос:
– Ну, Егор Иванович, с побывкой…– А в голосе столько тоски и сдержанной,
светлой зависти…
А потом сидим мы с отцом на пригорке над речкой. Я прижимаюсь к его теплому
боку, чувствую на плечах родную тяжесть его большой руки и мне так спокойно.
– Как там наши… как мама? – спрашивает он.
– Нормально, – хрипло шепчу я…– Все у нас нормально… Мамка бригадиром в
колхозе работает, на агрономшу учится… Я в школе… Колхоз наш укрупнили…три
деревни вместе…И трактор новый дали…
– А старый что ж? – отец смотрит на меня словно воду из ручья в летний полдень
пьет…
– Подорвался … в прошлом году на мине… Петьке Остапу ногу оторвало. Хорошо
еще жив остался.
– Петька? – отец хмурится, пытаясь вспомнить.
– Дядь Акима Остапова сын,– говорю ему.
1
– Аким, значит тоже…
– Не вернулся, – заканчиваю я.
– А где мы, бать, в раю, да? – я смотрю из-под отцовой руки на тихую речную
заводь, на сад, сбегающий к воде с холма…– А председателев сын, Серега, говорит, что
рая нету…
– Для него может и нету, – грустно вздыхает отец. – Что ему рай, он – дома,