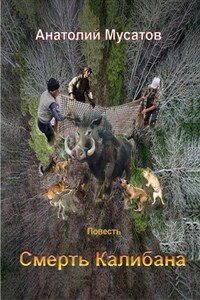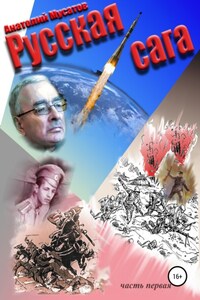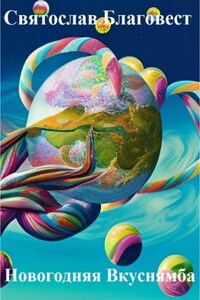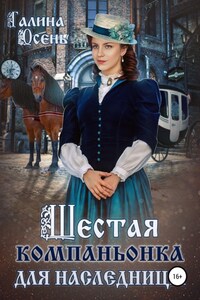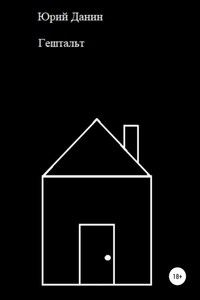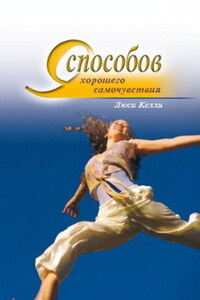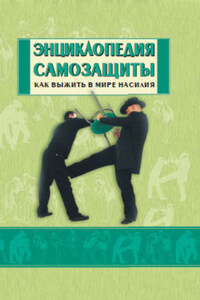Собравшись с силами, Василий Иванович стащил с антресоли небольшой обшарпанный чемодан. Избитый годами странствий, он потерял форму, цвет, но для старика не утратил ценности, как свидетель его прошедшей жизни. Василий Иванович с некоторых пор с мистическим чувством думал, что их совместное существование находится в ведении каких-то неведомых сил. Иначе объяснить присутствие этого чемоданчика здесь и сейчас он не мог.
Сколько перипетий выпало на его долю, потерь и трагически-непредсказуемых ситуаций, а вот поди ж ты, этот предмет, словно вторая шкура, был всегда при нем. Даже в госпитале чемодан не затерялся среди суматохи тех дней. Когда мать собирала Василия на учебу в военное училище, он и представить не мог, что через полвека эта заурядная вещь станет хранителем самых значимых дат его жизни.
Откинув крышку, он достал из аккуратно сложенных пачек документов одну. Осторожно перебирая стопку бумаг, Василий Иванович вынул ветхий, побитый по краям блокнотик. Помедлив, он начал листать полустертые страницы. Из блокнотика выпал пожелтевший, весь в разводах масляных пятен, листок. Текст почти выцвел, и на пятнах карандашные строки истончились до невесомой прозрачности. С трудом наклонившись, старик поднял листок. Расправив мелкую сетку помятой бумаги, всмотрелся в едва различимый текст пятидесятилетней давности.
…Тысячи лет существует мир, и тысячи мальчишек и девчонок – Ромео и Джульетт – испытывают на себе тот бесценный дар Природы, – чувство первой любви, и только у немногих остается этот дар на всю жизнь. А жаль! Жаль, что с годами у многих проходит чувство благоговейного трепета перед своей Богиней, чувство ненасытной потребности быть рядом с ней, без колебаний идти к Ней на помощь, чувствовать ее в каждом ударе своего сердца, в каждой капле своей крови… Очень жаль…
Василий Иванович грустно улыбнулся. «Черт те чем тогда была забита его голова!». Эти наивные, наполненные горячим, живым чувством строки, всколыхнули полузабытые страсти фронтовой юности. Кругом была война, смерть и страдания, потери друзей и близких, а у него в голове неотвязным рефреном крутились мысли о Тане, своей любви, оставленной в непомерно далеком, родном краю…
Ничто не могло заслонить мысли о ней. Василий исполнял все предписанные уставом и службой обязанности почти машинально. Два месяца прошло с тех пор, когда он в последний раз держал ее ладошку в своей руке, не в силах разжать пальцы. Состав уже дергался, чуть заметно набирая ход, и Гриша Дубровин орал ему: «Вась, все, все…», – а он стоял, как истукан, видя перед собой лишь наполненные слезами и страданием глаза Тани.
Может, они помогли ему выжить, породив неистребимую жажду вернуться, еще хоть разок увидеть ее прекрасные глаза, услышать ее голос, прерывисто-страстно и нежно шепчущий: «Не надо, Васенька, не надо… не надо…».
И это, почти исчезнувшее стихотворение, он писал, лежа на нарах теплушки в первую же ночь такого длинного, ждущего впереди фронтового пути:
Обдирая последние листья,
Продувает зима черный лес.
Средь буранов и ветра посвистья
Не увидеть лазури небес.
Мне бы жить среди яркого света
И ходить по траве луговой,
Чтоб мечтать в стане теплого лета
О нечаянной встрече с тобой.
Одинокая песня вернулась
Дальним эхом с опушки лесной,
Болью сердце мое встрепенулось
От несбывшейся встречи с тобой.
Жги, тальянка, горюче рыдая,
Расскажи ей, как горестно мне…
Мое сердце, безмерно страдая,
Пропадает в любовном огне…
Странная смесь звуков одновременно не давала уснуть и завораживающе убаюкивала своей слаженной какофонией. Мерный перестук колес делил на части веселые выкрики солдат: «Смотри, Колян спит с открытыми глазами… Не, это он мечтает, чтобы к Новому году его наградили орденом… Да, точно, за убитый десяток мух на кухне… Не, братцы, за рекорд по нарядам вне очереди… Точно, медаль «За боевые заслуги!..».