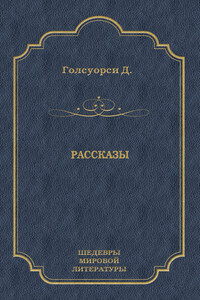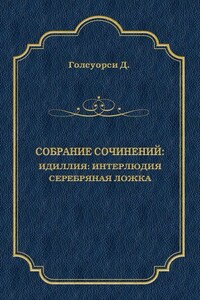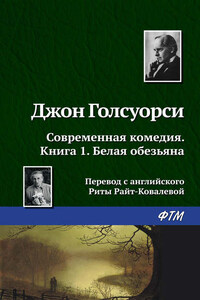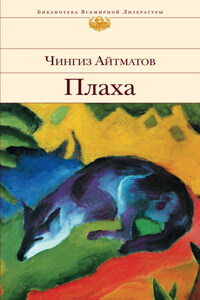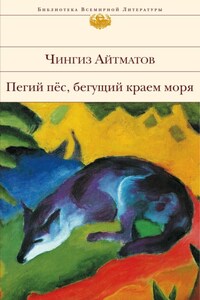Двенадцатого мая 1920 года Сомс Форсайт вышел из подъезда своей гостиницы, Найтсбридж-отеля, с намеренном посетить выставку в картинной галерее на Корк-стрит и заглянуть в будущее. Он шел пешком. Со времени войны он, по мере возможности, избегал такси. Шоферы, на его взгляд, были отъявленные невежи, хотя теперь, когда война закончилась и предложение труда снова начало превышать спрос, они становились почтительней согласно законам человеческой природы. Но Сомс им так и не простил: в глубине души он отождествлял их с мрачными тенями прошлого, а ныне смутно, как все представители его класса, – с революцией. Сильные волнения, перенесенные им во время войны, и еще более сильные волнения, коим подвергло его заключение мира, не прошли без психологических последствий для его упрямой натуры. Он столько раз в мыслях переживал разорение, что перестал верить в его реальную возможность. Чего же еще ждать, если и так приходится платить четыре тысячи в год подоходного и чрезвычайного налога![1] Состояние в четверть миллиона, обремененное только женой и единственной дочерью и разнообразно обеспеченное, представляло существенную гарантию даже против такого «нелепого новшества», как налог на капитал[2]. Что же касается конфискации военных прибылей, то ей Сомс всецело сочувствовал – сам он таковых не имел. «Прощелыги! Так им и надо», – говорил он о тех, кто нажился на войне. На картины между тем цены даже поднялись, и с начала войны дела с коллекцией шли у него все лучше и лучше. Налеты цеппелинов также подействовали благотворно на человека, по природе осторожного, и укрепили и без того упорный характер. Возможность в любую минуту взлететь на воздух приучала относиться более спокойно к взрывам небольших снарядов в виде всяческих обложений и налогов, а привычка ругать немцев за бессовестность естественно перерождалась в привычку ругать тред-юнионы – если не открыто, то в тайниках души.
Он шел пешком. Торопиться было некуда, так как они условились с Флер встретиться в галерее в четыре, а сейчас было только половина третьего. Ходить пешком Сомс считал для себя полезным – у него пошаливала печень, да и нервы слегка развинтились. Жена его, когда они жили в городе, никогда не сидела дома, а дочь была прямо неуловима и целый день «носилась по разным местам», легкомысленная, как большинство молодых девушек послевоенной формации. Впрочем, уже и то хорошо, что по своему возрасту она не могла принять участие в войне. Из этого не следует, что Сомс не поддерживал войны всей душой с первых ее дней, но между такою поддержкой и личным, непосредственным участием в войне родной дочери и жены зияла пропасть, созданная его старозаветным отвращением к экстравагантным проявлениям чувств. Так, например, он решительно воспротивился желанию прелестной Аннет (в четырнадцатом году ей было только тридцать четыре года) поехать во Францию, на свою «chère patrie»[3], как она выражалась теперь под влиянием войны, и ухаживать там за своими «braves poilus»[4]. Губить здоровье, портить внешность! Да какая она, в самом деле, сестра милосердия! Сомс наложил свое veto: пусть дома шьет на них или вяжет. Аннет не поехала, но с этого времени что-то в ней изменилось. Ее неприятная наклонность смеяться над ним – не открыто, а как-то по-своему, постоянно подтрунивая, – заметно возросла. В отношении Флер война разрешила трудный вопрос – отдать ли девочку в школу или нет. Лучше было отдалить его от воинствующего патриотизма матери, от воздушных налетов и от стремлений к экстравагантным поступкам; поэтому Сомс поместил ее в пансион, настолько далеко на западе страны, насколько это, по его представлениям, было совместимо с хорошим тоном, и отчаянно по ней скучал. Флер! Он отнюдь не сожалел об иностранном имени, которым внезапно, при ее рождении, решил окрестить дочь, хоть это и было явной уступкой Франции. Флер! Красивое имя – красивая девушка! Но неспокойная, слишком неспокойная, и своенравная! Сознает свою власть над отцом! Сомс часто раздумывал о том, какую он делает ошибку, что так трясется над дочерью. Старческая слабость! Шестьдесят пять! Да, он старится; но годы не очень давали себя знать, так как, на его счастье, несмотря на молодость и красоту Аннет, второй брак не пробудил в нем горячих чувств. Сомс знал в жизни лишь одну подлинную страсть – к своей первой жене, к Ирэн. Да! А тот бездельник, его двоюродный братец Джолион, которому она досталась, совсем, говорят, одряхлел. Неудивительно – в семьдесят два года, после двадцати лет третьего брака.