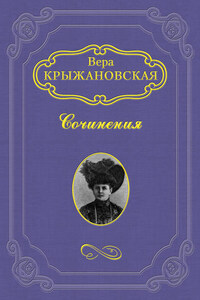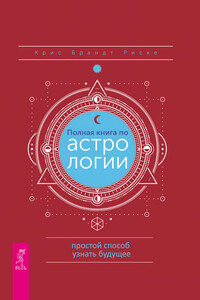В одном обществе нам показали человека лет пятидесяти, в черном фраке, сухощавого, грустного, но с огненною, подвижною физиономиею. Он, как нам сказывали, уже лет двадцать занимается престранным делом: собирает коллекции картин, гравюр, музыкальных сочинений; для этой цели не жалеет он ни денег, ни времени; часто предпринимает дальние путешествия для того только, чтоб отыскать какую-нибудь неопределенную черту, случайно брошенную на бумагу живописцем, а не то – листок, исчерченный музыкантом; целые дни проводит он, разбирая свои сокровища, то по хронологическому, то по систематическому порядку, то по авторам; но чаще всего тщательно всматривается в эти живописные черты, в эти музыкальные фразы; складывает отрывки вместе, замечает их отличительный характер, их сходство и различие. Цель всех его изысканий – доказать, что под этими чертами, под этими гаммами кроется таинственный язык, доселе почти неизвестный, но общий всем художникам, – язык, без знания которого, по его мнению, нельзя понять ни поэзии вообще, ни какого-либо изящного произведения, ни характера какого-либо поэта. Наш исследователь хвалился, что ему удалось найти смысл нескольких выражений этого языка и ими объяснить жизнь многих художников; он не шутя уверял, что такое-то движение мелодии означало грусть поэта, другое – радостное для него обстоятельство жизни; такое-то созвучие говорило о восторге; такая-то кривая линия означала молитву; таким-то колоритом выражался темперамент живописца и проч. Чудак преважно рассказывал, что он трудится над составлением словаря этих иероглифов – и уже впоследствии, при этом пособии, издаст исправленные и дополненные биографии разных художников; «ибо, – присовокуплял он с самым настойчивым педантизмом, – эта работа очень многосложна и затруднительна: для совершенного познания внутреннего языка искусств необходимо изучить все без исключения произведения художников, а отнюдь не одних знаменитых, потому что, – прибавлял он, – поэзия всех веков и всех народов есть одно и то же гармоническое произведение; всякий художник прибавляет к нему свою черту, свой звук, свое слово; часто мысль, начатая великим поэтом, договаривается самым посредственным; часто темную мысль, зародившуюся в простолюдине, гений выводит в свет не мерцающий; чаще поэты, разделенные временем и пространством, отвечают друг другу, как отголоски между утесами: развязка „Илиады“ хранится в „Комедии“ Данте; поэзия Байрона есть лучший комментарий к Шекспиру; тайну Рафаэля ищите в Альберте Дюрере; страсбургская колокольня – пристройка к египетским пирамидам;{1} симфонии Бетховена – второе колено симфоний Моцарта… Все художники трудятся над одним делом, все говорят одним языком: оттого все невольно понимают друг друга; но простолюдин должен учиться этому языку, в поте лица отыскивать его выражения… так делаю я, так и вам советую». Впрочем, наш исследователь надеялся скоро привести свою работу к окончанию. Мы упросили его сообщить нам некоторые из его исторических разысканий, и он без труда согласился на нашу просьбу.
Рассказ его был так же странен, как его занятие; он одушевлялся одним чувством, но привычка соединять в себе разнородные ощущения, привычка перечувствовывать чувства других производила в его речи сброд познаний и мыслей часто совершенно разнородных; он сердился на то, что ему недостает слов, дабы сделать речь свою нам понятною, и употреблял для объяснения все, что ему ни попадалось: и химию, и иероглифику, и медицину, и математику; от пророческого тона он нисходил к самой пустой полемике, от философских рассуждений к гостиным фразам; везде смесь, пестрота, странность. Но, несмотря на все его недостатки, я жалею, что бумага не может сохранить его сердечного убеждения в истине слов, им сказанных, его драматического участия в судьбе художников, его особенного искусства от простого предмета восходить постепенно до сильной мысли и до сильного чувства, его грустную насмешку над обыкновенными занятиями обыкновенных людей.