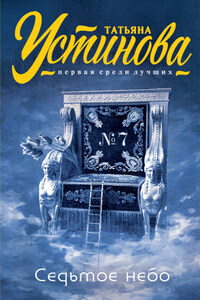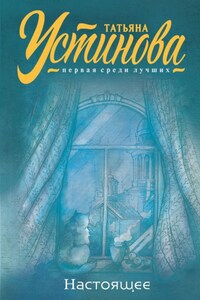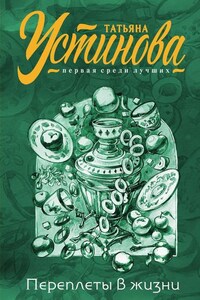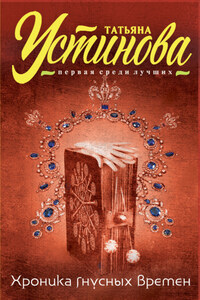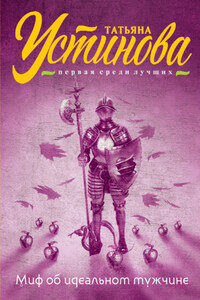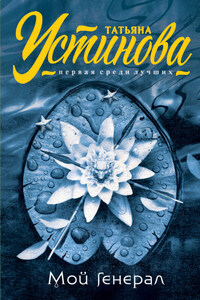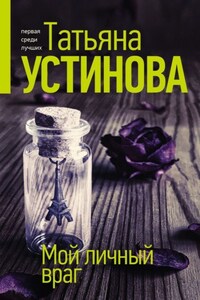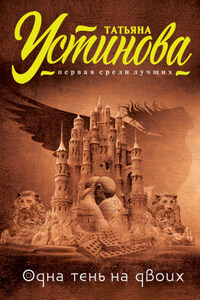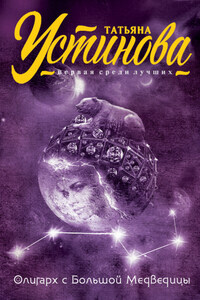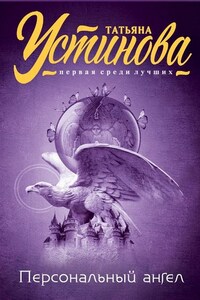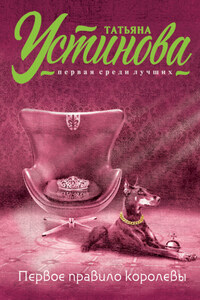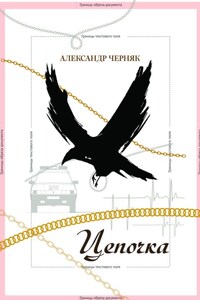Большая игра начнется завтра, и к ней все давно готово: документы, бумаги, люди, которые должны оказаться в нужное время в нужном месте. Выверены и согласованы все детали, даже самые мелкие. Предусмотрены любые неожиданности. На этот раз все должно пройти без сучка без задоринки. Никто не узнает, кто заварил эту кашу, а бороться вслепую так же глупо, как тушить лесной пожар минеральной водой из бутылки.
Завтра. Наконец-то.
Хорошо, когда все наконец готово и точно известно не только когда и как начнется большая игра, но и когда и как она закончится. В ежедневнике была отмечена еще одна дата – двадцать пятое декабря. Очень хорошая дата. Просто отличная дата, и выбрана не просто так, а с совершенно определенным смыслом.
Новый год будет новым во всех отношениях.
Основные участники большой игры останутся в старом году навсегда. Для них двадцать пятое декабря – идиотский слюнявый западный праздник, которым все так упиваются в пос леднее время, – не кончится никогда.
Они умрут в Рождество.
Разве не забавно?
Ну вот опять!
Кто-то что-то, как всегда, прошляпил, а она должна спасать положение, пропади оно все пропадом! Разве она виновата, что гениальный корреспондент с многозначительным именем Гриша Распутин опять запил, или закурил, или что там у них принято, у наркоманов?.. Она в сердцах лупила по клавиатуре, и истязаемый старенький компьютер стонал почти человеческим голосом. Он был ни при чем, но Лидия его в этот момент ненавидела.
– Лидия, ты чего? – спросил, протискиваясь мимо, Саша Воронин, корреспондент отдела культуры. – Ты пытаешься компьютер разбить или работаешь?
– Работаю, – процедила Лидия не оглядываясь. Сашка был большой и сильный и не мог пролезть в узкое пространство между ее креслом и стеной, но от злости она даже на сантиметр не подвинулась, хотя чувствовала, как он пыхтит, пытаясь ее сдвинуть. – И не мешай мне, Христа ради! Надо тебе в коридор, выйди, как все люди, а меня не дергай!
Сашка в конце концов протиснулся и сказал осуждающе:
– Я тебя и не дергаю. Больно надо…
– Ее, видишь, Игорь запряг на ночь глядя, – сказала из угла спокойная и добродушная редакторша Нина. – Гришка опять в отключке, материал не сдал, который в номер давно заявлен…
– Гришка через день в отключке. – Саша остановился на пороге и закурил. В комнате курить было нельзя, за это шибко гоняли пожарные, зато в коридоре можно, и все курили, стоя одной ногой в комнате, а второй в коридоре – так, чтобы и телефон слышать, и пожарных не злить. – У Игоря запасного варианта нету, что ли?
– Лидия у него запасной вариант. – Нина закурила прямо в своем углу. Она проработала в этом здании лет пятнадцать и никого не боялась. – Может, тебе сделать кофе, Лидия?
– Отстаньте от меня немедленно и навсегда, – пробормотала та, лихорадочно читая только что написанное. – Ты не знаешь, Нинуль, у нас в принтере бумага есть еще?
– У нас в принтере бумага с утра кончилась, – ответила Нина с удовольствием.
Она любила, когда что-нибудь кончалось. Добыть в хозотделе бумагу, картриджи, кассеты и всякую прочую необходимую мелочь не мог никто, кроме нее. Почему-то заведующая этим самым хозотделом свою работу понимала как непримиримую борьбу с журналистами, которые изводили кипы бумаги, тысячи картриджей и тонны ручек. Все это она прятала, зажимала, не давала, лично убеждалась в том, что все ручки действительно рассосались в редакционном пространстве, а принтер не печатает, и тогда скрепя сердце выдавала требуемое. Только Нине она почему-то доверяла как себе самой, поэтому на поклон к Нине то и дело ломился редакционный люд, жалобно стенающий и посыпающий пеплом свои гениальные журналистские головы.
– Нинуль, – привычно заныла Лидия, не отрываясь, од нако, от текста, – сходи к своей мадам Плюшкиной, а? Если я сейчас в другой отдел понесусь распечатывать, я точно ничего не успею. Игорь еще смотреть должен и править, а он на выпуске, мне его ловить надо…