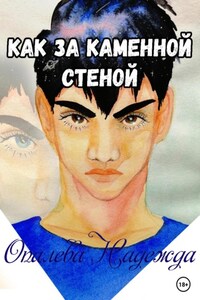«Тебе на роду написано просыпаться от кошмаров», – съёжившись на бетонном полу камеры, говорила себе Нина.
Всю жизнь её преследовали страшные сны о том, как её хватает демографическая полиция. То они сгребали её на улице лопатами, будто мусор, то толкали прикладами автоматов в спину или целились в лоб.
Но прежде чем спускали курок, она просыпалась.
Однажды даже приснилось, что пришедший за ней полицейский переоделся в кружевную ночную сорочку в мелкую складочку и ночной чепчик тёти Ценки. После этого сна Нина долго, несколько месяцев, отказывалась целовать тётю Ценку на ночь, и никто не понимал почему. Сама Нина никому бы ни за что не призналась, ведь тогда над ней стали бы смеяться. А какой тут смех.
Нина не зря боялась демографической полиции.
Эти люди были страшилищем, серым волком и злой ведьмой, ужасным чудовищем и другими, вместе взятыми, негодяями, о которых она слыхала.
Но, как и страшилище, серый волк, злая ведьма и ужасное чудовище, демографическая полиция жила в рассказах и кошмарах, а не в настоящей жизни.
Сейчас Нина ударилась головой о бетонную стену.
– Проснись! – отчаянно приказала она себе. – Проснись!
От удара голова заболела, только ведь во сне такого не бывает, правда же? Во сне ничего не болит. Даже если тебя порют до крови, ничего не чувствуешь. А свяжут по ногам, чтобы не сбежала, верёвки не жгут кожу.
Запястья и лодыжки истёрлись до крови под кандалами, что приковали её к стене. Кожа на спине была содрана, и малейшее прикосновение рубашки к позвоночнику отдавалось невыносимой болью во всём теле. Один глаз заплыл и распух от ударов.
Всё тело саднило.
«Это просто страшный сон, – упрямо твердила она себе, – меня не арестовали по-настоящему».
Она смаковала неясные воспоминания, словно арест был чем-то приятным, а не самым страшным событием её жизни. Она даже не помнила, как демографическая полиция вошла в столовую или назвала её имя. «Видишь? Видишь? Разве это не доказывает, что на самом деле ничего не произошло?» Она просто завтракала, радуясь трём изюминкам, попавшим в овсянку. И вдруг в комнате наступила мёртвая тишина, и все посмотрели на Нину. Она почувствовала эти взгляды, уронила ложку. Овсянка попала на девочку, сидевшую рядом, но Лизл не жаловалась, просто смотрела на неё, как и все остальные. Именно эти взгляды, а не звук её имени, заставили подняться и пройти вперёд, протягивая руки для наручников.
«Какое имя они выкрикнули? – вспоминала она. – Нина или… или…»
Нет, она даже думать об этом не станет. Иногда во сне демографическая полиция читала мысли.
Нина вернулась к воспоминаниям: она шла по бесконечному проходу между столиками, а другие девочки сидели, как куклы на полке. Знакомая столовая вдруг превратилась в ущелье, в котором из темноты сверкают бесчисленные глаза. Нина не оглядывалась по сторонам, но чувствовала, как все эти глаза молча её провожают. Глаза были кукольные, пустые, как камешки.
«Почему никто меня не защитил? – удивлялась Нина. – Никто не говорил, не упрашивал, не умолял, не отказывался меня отпустить?»
Она и так знала. Будь это просто кошмар… – «Это ведь кошмар?» – все до смерти перепугаются и не пикнут. Она и сама с перепугу не скажет ни слова, словно кто-то другой изумлённо идёт к полицейскому с медалями на груди. Будто арестовывают кого-то другого. «Почему её? Как они её нашли? Почему узнали только о ней? Прекрати, – оборвала она себя. – Кошмары всегда бессмысленны».
Она вспомнила, с каким трудом переставляла ноги: поднять, опустить, правую, левую, ближе, ближе… Протестовать или защищаться не было сил.