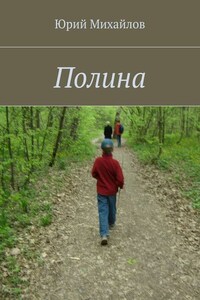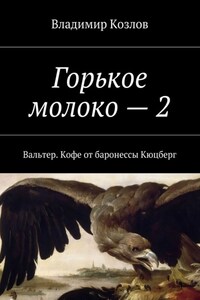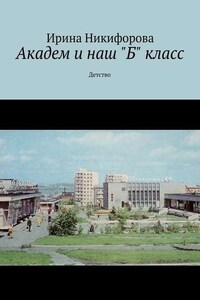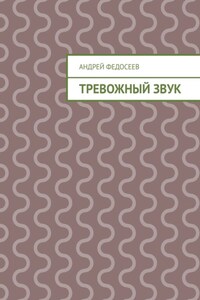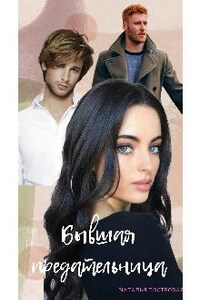Сына, родившегося в семье Василия Колышкина, героя войны, вернувшегося зимой 45-го домой инвалидом первой группы, назвали Вадимом. До него в семье уже было четверо ребят. И вот – дитя Победы. Он оказался здоровым пацаном, который рос как и все мальчишки многоквартирного муравейника, именуемого в документах общежитием ткацкой фабрики. На четырех этажах кирпичного дома размещалось порядка семидесяти комнат, с общими кухнями, туалетами и умывальниками. Однако была горячая и холодная вода, а в подвале располагалась прачечная с несколькими ваннами и душем. Жили, как говорится, даже с некоторым социальным «комфортом».
Отец
Они идут с отцом по разбитой подводами осенней дороге, как две странные тени. Одна, покрупнее, сгорбившаяся, волочит по грязи ногу, подпирая ее самодельной еловой палкой. На отце фуфайка без карманов, обшитая черной технической марлей, которая закручивается под коленями и мешает идти. Одежда напоминает брезентовые накидки грузчиков, в которых они, матерясь и сморкаясь, таскают по дощатым настилам тяжеленные мешки.
Отец еле дышит, часто останавливается, на сына не обращает внимания. Вадим то и дело забегает вперед, старается схватить свободную руку отца, чтобы идти рядом. Не выходит: тот зажал в руке носовой платок, сделанный из выцветшей наволочки и подрубленный по краям грубым швом. Вытирает лоб, одновременно поднимая огромных размеров черную драповую фуражку, кажущуюся сыну жуком—плавунцом, вдруг надумавшим взлететь в небо.
– Папа! – Запинаясь за палку, вскрикивает сын и падает отцу под ноги. – Па – па… – уже сдавленно, стараясь отползти от падающего на него тела, хрипит мальчик. Отец не смог сгруппироваться, выставить вперед руки, рухнул набок, спасая сына. Его безжизненная нога застряла в колесной колее. Они возятся в холодной жиже, один тихо поскуливая, второй – бормоча что-то невнятное и пытаясь нащупать во внутреннем кармане фуфайки лекарство, полученное в аптеке. Инвалидам войны его отпускают бесплатно, но завозят в поселковую больницу крайне редко.
Вадим грязными озябшими руками тащит отца за локоть. Мальчик беспрерывно повторяет: «Папа, папа, давай, подымайся, папа…».
Как Вадим оказался вместе с отцом на этой дороге – мама ли дала его в провожатые или сам напросился, – он не помнил.
Еще один эпизод застрял в голове у Вадима, но сместился и в пространстве, и во времени. Он до сих пор не смог бы сказать, когда это произошло: до дороги в аптеку или позже. Но это и неважно, он хранил его в памяти и никому не рассказывал, даже родным братьям.
Послевоенные мальчишки курили дешевые папиросы и сигареты «Пушка», «Прибой», «Север», почти не прячась. Малышня, семи-восьми лет, подражая им, набирала «бычков» – окурков, уходила в овраг, в который была протянута внушительных размеров труба для водосброса, забирались внутрь ее и смолили эти окурки. Вадим не отставал от приятелей, и «бычки» собирал, и смолил их как заправский курильщик. Об этом знал только средний брат, кстати, игравший в футбол и не куривший совсем. Но он молчал, наверное, стараясь поддержать авторитет младшего брата.
После очередного похода к трубе мальчишки выбирались из оврага не по тропинке, а напрямик, по крутому склону, хватаясь за стойкие кусты полыни и стебли лопуха. Вадим и не заметил, как оказался на кромке оврага и почти носом уперся в живот отца. Тот стоял, подпираясь палкой, не еловой, а аптекарской, светло-желтой с ручкой и резиновым наконечником. Взял сына за руку, повел к дому. На краю зеленой канавки у футбольного поля отец присел на траву, достал из кармана пиджака кисет, рулончик газеты и протянул все это хозяйство сыну. Вадим не боялся, он не знал, что такое отцовская порка ремнем.