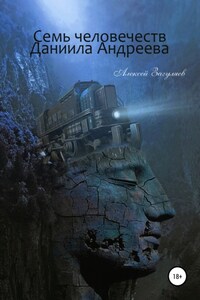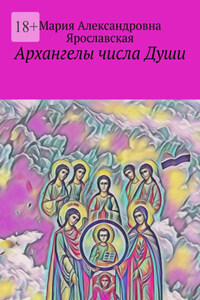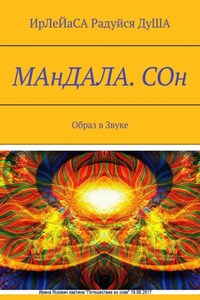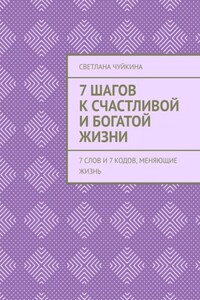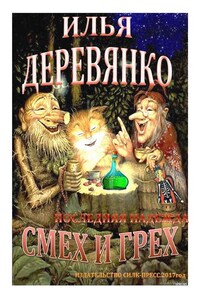Эпиграф: «Свобода и своеобразие философского познания всегда подвергались опасности, и притом с разных, противоположных сторон. Если сейчас философия находится в зависимости от науки, то раньше она находилась в зависимости от религии. … Но рабство философа связано совсем не с тем, что у него есть религиозная вера и научное знание. Рабство это связано с тем, что религиозная вера и научное знание становятся внешними повелевающими силами для философского познания. И религия и наука могут внутренне оплодотворять философское познание, но они не должны делаться внешним авторитетом для него. … Если философ верит в религиозное откровение, то он не может в своем познании не питаться им. Но откровение не есть для его философского познания внешний авторитет, оно есть для него внутренний факт, философский опыт. … Философия человечна, философское познание – человеческое познание; в ней всегда есть элемент человеческой свободы, она есть не откровение, а свободная познавательная реакция человека на откровение. Если философ-христианин и верит в Христа, то он совсем не должен согласовать свою философию с теологией православной, католической или протестантской, но он может приобрести ум Христов, и это сделает его философию иной, чем философия человека, ума Христова не имеющего. Откровение не может навязать философии никаких теорий и идеологических построений, но может дать факты, опыт, обогащающий познание. … Философия есть часть жизни и опыт жизни, опыт жизни духа лежит в основании философского познания. Философское познание должно приобщиться к первоисточнику жизни и из него черпать познавательный опыт. Познание есть посвящение в тайну бытия, в мистерии жизни. Оно есть свет, но свет, блеснувший из бытия и в бытии. … Религиозное откровение означает, что бытие открывает себя познающему. Как же он может быть к этому слеп и глух и утверждать автономию философского познания против того, что ему открывается?».
(Н. Бердяев «О назначении человека»)
Перечитывая «Розу Мира» снова и снова, я каждый раз нахожу что-то новое, ранее не замеченное мною. Я почти уверен, что такие находки будут бесконечными, если бесконечно перечитывать тексты Даниила Андреева. Всевозможные свидетельства, относящиеся к одному и тому же вопросу, разбросаны по книге, словно ключи в замысловатом квесте; и не только то, о чём говорит вестник, имеет значение, но и то, о чём он не говорит ни слова, хотя, по логике вещей, должен; упомянутое как будто вскользь и невзначай насыщено таким глубоким смыслом, что это достойно отдельного многостраничного описания… И как бы я ни старался переставить местами главы и части текстов, как бы ни старался соединить в одном абзаце разбросанные по разным местам описания, – всё равно эта моя новая структура ни в какое сравнение не входит со структурой первоначальной, авторской. В «Розе Мира» настолько всё цельно и изложено с такой безукоризненной внутренней логикой, что любая перестановка мест вряд ли облегчит понимание этой книги для тех, кто ещё не готов принять хотя бы часть её утверждений.
Всевозможные сравнения с другими источниками теряют смысл, как если бы я сравнивал ярко освещённый предмет с чем-то туманным, едва оформленным; ни теософия Блаватской, ни антропософия Рудольфа Штайнера ничего общего не имеют с содержанием «Розы Мира». Некогда увлечённый этими авторами, я ещё силился что-то сравнивать, но в итоге понял, что такие попытки обречены на логические подмены. Людей, пытающихся увидеть «Розу Мира» через призму теософии и антропософии, не так мало. К сожалению, часто они не улавливают существенной разницы между этими областями и идеями Даниила Андреева. Чтобы поправить столь некритичное отношение при сопоставлении этих концепций, приведу мнение самого Андреева относительно Блаватской и Штайнера. Это было обнаружено в его черновиках, относящихся к «Розе Мира». Андреев считал, что, несмотря на «крайне смутные предчувствия Розы Мира», Блаватская находилась в то же время под влиянием некоторых низших форм индийской философии и под воздействием бесовщины от Дуггура до Цебрумра. Что же касается Штайнера, то его он считал «несчастным путаником», совратившим с пути тысячи душ; посмертные муки Штайнера, по словам Андреева, сократило лишь то, что тот был добр в жизни. Я полагаю, что простое знание этого отношения Андреева к этим двум людям остановит много ненужных споров и попыток найти общее между несовместимым. Даниил Андреев прозрел намного дальше и оформил увиденное в такие образы, которые, с одной стороны, синкретичны (неразлагаемы, нераздельны), а с другой – легко вплетаются в рамки человеческих представлений. Если же начинать поиски корней андреевских образов в религиозной космологии, то вообще можно запутаться окончательно и совершить какую-нибудь ошибку. К тому же здесь кроется одна сложность… Современное сознание, за века выхолощенное наукообразным мышлением, может столкнуться с чем-то для него новым. Конечно, по сути своей новым это не является, потому что мифологический подход к пониманию космических процессов сопутствовал человечеству на протяжении тысячелетий. Но этот язык нами уже давно забыт, отданный на откуп художникам и поэтам. Но ведь именно ОБРАЗ, а не абстрактное рассуждение о чуждых нашему духу «абсолютах», является тем универсальным кодом Вселенной, при помощи которого только и возможно общение между человеком и Богом. И надо понимать, что этот код исторически подвижен, он как бы вбирает в себя со временем всё новые и новые смыслы, предстаёт такими гранями, которых мы ещё не могли наблюдать тысячу или двести лет назад. Но он всё равно остаётся ОБРАЗОМ и ничем иным. И ещё понимать нужно то, что такие образы могут интерпретироваться нашим сознанием по-разному: во-первых, сообразно личному опыту, а, во-вторых, сообразно тому историческому контексту, на фоне которого они были явлены первый раз. Нужно научиться видеть главное, нужно разглядеть намеченные пути и цели. И если нет никаких параллелей с западной мистической школой, которые могли бы хоть отчасти помочь адаптировать к нашему сознанию поток андреевских образов, то здесь на помощь могла бы прийти русская религиозная философия. И в первую очередь философия Владимира Соловьёва. Идея всеединства под эгидой какой-то высокоэтичной инстанции пронизывает всё творчество этого русского философа, мистика и поэта. Положив начало самому движению религиозной философской мысли, Соловьёв, прожив недолгую жизнь, передал эстафету целой плеяде выдающихся мыслителей конца девятнадцатого-начала двадцатого веков: Сергей Булгаков, Николай Бердяев, Павел Флоренский… И конечно же, особое место следует уделить Фёдору Михайловичу Достоевскому, который ещё до Соловьёва поднял этическую и религиозно-философскую планку на такую высоту, которая оказалась по силам лишь единицам. Да, Андреев движется как бы в фарватере всех этих идей, но никто до него не осмелился дать ответы на существующие вопросы таким образом, чтобы над ноуменальными (непознаваемыми разумом) явлениями заблистали образы зримые, так понятные человеческому сердцу; ведь именно к этим образам вопиет человеческая душа, исполненная болью и состраданием за несовершенный дольний мир. Личный опыт общения с миром духовным имели все, кого я упомянул выше, но никто почему-то не решился представить этот свой личный опыт как источник и двигатель вытекающих из него идей, но вместо того словно бы пытался его оправдать всё ещё умозрительными теориями, у которых во вне не находилось реальной опоры. И в этом есть главная заслуга Андреева – он был первым глашатаем, который, вопреки всему, прямо сказал о том, что уже не могло быть укрытым. Это же стало и своего рода камнем преткновения для классической русской религиозной мысли. Если имена Соловьёва и Бердяева заняли свои подобающие места в российской истории, то имя Даниила Андреева произносится чуть ли не шёпотом и вскользь.