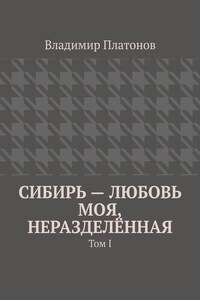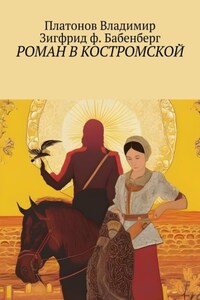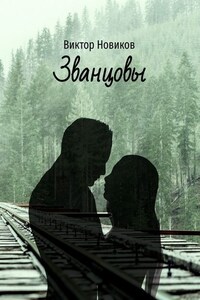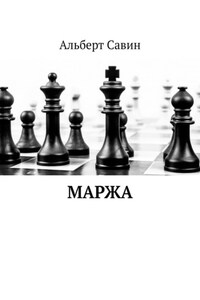Проскочил незаметно январь, от которого сохранилось лишь два листочка в блокноте. Восьмого числа, например, зашёл на наряде раз-говор о труде, о производительности его. В ответ на моё замечание, что её рост обогащает страну и увеличивает возможности для повышения благосостояния населения, один из навалоотбойщиков бросил в сердцах: «Какое мне дело до всеобщего благосостояния – я жрать хочу!» Какое убийственное у всех равнодушие ко всему, кроме этого: «Я жрать хочу!»
…Насколько мне было тягостно и тоскливо в эти январские дни можно судить по заметке восемнадцатого января о весне сорок первого года с любящими меня матерью и отцом и другими людьми, с пекарней на барже и заключённым пекарем-грузином и его ласковым словом «синок». От приятных воспоминаний поднималось в какой-то, знать, степени настроение, становилось чуточку легче и теплей на душе.
…Вдруг, после многомесячного молчания, я получаю от Людмилы письмо – не письмо, паническую записку: у неё болят глаза, кажется, она начинает слепнуть. Я рассказал о письме своему начальнику, и он разрешил мне прихватить пару деньков к выходному, чтобы съездить к возлюбленной.
…Открыв дверь, любимая меня обняла, прижалась всем телом ко мне, и губы наши слились в поцелуе. В долгом, кружащем голову, обещающем поцелуе. Все они были, кружащими и обещающими… А глаза у неё действительно покраснели, и на работу она не ходила – больничный лист был.
Не знаю, чем я мог ей помочь, и для чего она меня вызвала. Тоска тоже, что ли, нахлынула?.. Днями мы бродили по городу и говорили, и говорили, и говорили. Жалела меня, что мне трудно в глуши, где я, вероятно, отвык от высоких домов, театров, трамваев… Вспомнила! Но ни в какие театры, ни в какое кино мы с ней не ходили, я и не подумал её туда пригласить, как не подумал и о ресторане. Мне и без того было с ней хорошо, ничего мне этого было не нужно, мне была нужна лишь она. Только видеть её, только слышать… А о ней, что ей нужно, не подумал ни разу. Кем же я в глазах её выглядел? То-то. Ей, возможно, совсем другого хотелось, чем од-
ни разговоры. Но и меня можно понять. Я так безумно любил, так страшился её навсегда потерять, и так был ею два раза ушиблен, что страх сковывал меня по рукам и ногам, я мог только приходить в восхищение ею, но ни на какое действие решиться не мог, инициатива должна была теперь только от неё исходить. Легко, конечно, меня назвать дураком, но побывали бы вы в моей шкуре.
…на ночь я уходил в знакомую комнату на втором этаже общежития, где всегда находилась пустая кровать, всегда кто-то был в третьей смене.
Я вернулся на шахту и вдруг стал получать от неё за запиской записку (такие уж письма у неё выходили). «Володя! – в первой писала она. – Обеспокоена твоим молчанием… Пойми, дорогой, что это молчание страшно угнетает меня, в голову лезут чёрт знает какие нелепые мысли… Несколько раз я порывалась приехать, но не могла: вечером не идут к вам машины, а я могу уехать только вечером… Всё ещё хожу по бюллетеню, но я уже почти здорова… Пиши. Напиши хоть одно слово… Люся».
…много позже, перечитав эти записки, я подумал о причинах её беспокойства: не случилось ли чего со мной в шахте? Да, пожалуй, в то время это был бы самый лучший выход для нас, для меня то есть, хотел я сказать… И в порывы её не очень поверилось. Почему только вечером? За два года, последовавших затем, так ни разу и не приехала, хотя побывала в гостях у многих друзей и съездила аж в Таштагол на самом юге Кузбасса, километрах в ста за Осинниками.