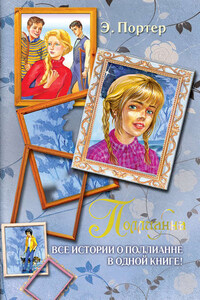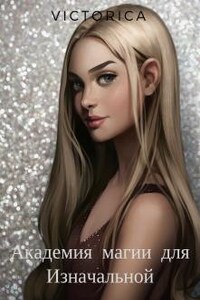Я втискиваюсь с рюкзаком в местный маленький жёлтый автобус, раздвигаю шторки и прижимаюсь лицом к окну.
Год, почитай, не был.
Тронулись.
Автобус юлит по узким улицам южного городка. Влево, вправо, влево… Вдоль дороги – пыльные каштаны, акации… Всё в цвету. Ветви цепляют окна.
Одноэтажные домики то прячутся в садах за палисадниками, то с любопытством выпрыгивают на улицу. Таращатся окошками с геранью, зевающими котами…
Автобус вываливается из городка в степь, и сразу со стороны моря из-за придорожных пирамидальных тополей выскакивает луна. Весёлая, она щурит хитрый жёлтый глаз от нестерпимого солнца.
Автобус жабой прыгает по ухабам, и вместе с ним над степью, касаясь животом алого поля маков, прыгает луна. В моей станице – и это правда – в небе разом висят и луна, и солнце. И если солнце плывёт себе над головой не спеша, то, как говорят в станице, луну мотает, будто чумовая Ворона её по небу волочит.
До горизонта – красные маковые поля. Маки гудят пчёлами, полощутся весёлыми лепестками на жарком уже ветру. Сам автобус похож на толстого шмеля в жёлтой пыльце. Шмель натужно гудит, сопит и покряхтывает.
Ещё два-три поворота, и вечер.
Бордовые лучи щекотно егозят по лицам пассажиров автобуса, тыкаются мошкарой в ветровое стекло, кувыркаются за пыльными окнами в маках, как воробьи в лужах. И, если прислушаться, от удовольствия тихо попискивают.
Слева и справа словно кто-то крутит два огромных, лежащих на земле колеса. И веером спиц то сходятся на горизонте, то разбегаются лесозащитки из уже отцветших абрикосов и розовых шапок душных цветущих акаций.
В воздухе чиркают ласточки и, если приглядеться, под самым куполом неба наматывают и наматывают круги три-четыре серебристых ястреба.
Слева промелькнуло цветастое, как все южные погосты, кладбище. Справа застыли серебристые сигары самолётов, ангары, ажурные зонты локаторов. И вот уже за поворотом со стороны залива замелькали мазанки первой станицы.
Теперь скоро.
Тридцать километров, и автобус выкатывается на станичную околицу у маленького жёлтого лабаза. Жарко дыша, замирает. Схожу.
И сразу не пойми откуда под ноги бросается Большая Шерстяная Собака. И крутится, и тычется в колени большой доброй башкой…
Ещё шагов двадцать – и моя Садовая. Короткая, вся в акациях, уходящая в небо – в конце обрыв над морем, и всё… только ветер, орущие чайки и чиркающие синеву ласточки.
– Санька, ты?.. – оглядываюсь. Со стороны кладбища, за грейдером, опираясь на посох, стоит Алик. Рядом – его бараны. – Та иди же до хаты… – смеётся и машет мне Алик. – Сморился с дороги. Увидимся. А то твои заждались. С вечера понаехали. Бачишь, у Рябухи сгуртовались… Вон, сидят…
И точно, у зелёного облезлого штакетника Мишки Рябухи под старым абрикосом на облупленной скамейке сидят все. Ждут.
«Как узнали?.. – шмыгаю я носом. – Телеграмм не давал…»
Вот бок о бок сидят Алка Гунтарь в намотанной на огненно-рыжие волосы жёлто-зелёной чалме и синем, в крупных подсолнухах, халате и муж её, Григорий Данилович. Спустил очки на резинке со лба и подслеповато прищурился – катаракта.
Дальше – Мишка Рябуха с изрезанным морщинами, будто поле бороздами, носатым добрым лицом, в вечной затрёпанной соломенной шляпе и с висящей на губе папиросой. Немного грустный. Как и его жена, Варвара – сидит рядом в синем платке в мелкий горох. Оба померли уже лет пять назад. Скучают.