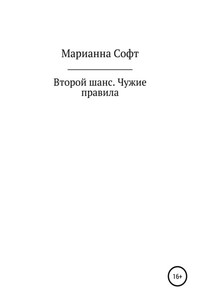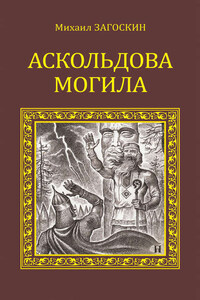Монопьеса в двух действиях
Действующие лица:
Жань-Поль, 7 лет.
Действие первое
Картина первая
Детская комната. Всё озаряет голубоватый свет. Край сцены, обращённый к зрителям, образует равносторонний треугольник с двумя стенами на заднем плане. В левой стене окно, за которым темно. В нём время от времени виднеется свет от проезжающих мимо машин.
Возле правой стены, в углу, стоит пустой деревянный белый стол, ближе к зрителям возле стены стоит белая тумба в том же стиле. На тумбе лежат блок-флейта вишнёвого цвета и несколько аккуратных стопок с нотами.
Под потолком висит бронзовая люстра. Свет от неё исходит слабый и будто бы смущённый.
Жань-Поль (в бежевой пижаме сидит на стуле в середине комнаты). Как у любого больного ребёнка, у меня есть обязанности и права; прав – достаточно, обязанностей – гораздо меньше. Я бы сказал даже, что они сведены к минимуму, если, конечно, от детей вообще можно чего-либо требовать.
На самом деле – дети обожают болеть. Первые несколько раз, когда девочка вгрызается в контуры губ (чтобы не рассыпать по всем комнатам смех) и похлопывает платье по складкам, – но оно мамочкино, куда уж ему быть – велико! велико! – ничего с ней не станется. А мальчик протирает удочку или мяч, чистит армейский нож; и славно, и дай им Бог так продолжать и дальше. После нескольких первых раз солнечный луч разрезает пол в коридоре наискось – без брызг и сияния из-за ушей всех этих юных созданий сыпется мысль обмануть мамочку, приложив руки к горлу, сказать, что где-то там колет, что горят щёки; наврать. Все эти дети, как будто рассыпав карамельки из своих разорвавшихся праздничных пакетов, забывают, как врать, что простыл.
Я никогда не выздоровлю. Всё отличие – я и остальные – растёт и вьётся из этих слов.
Сначала родители думали, что я не хочу идти в школу и специально так себя веду. Ты что, спросила меня мамочка, все тетрадки решил испортить? Посмотри, сказала она папочке, выхватывая его из кухни, все тетрадки свои раскрепил.
Я всего лишь сидел на полу своей комнаты и сортировал страницы; клетка на них прочерчена розоватыми или сиреневыми чернилами, неприятно писать в тетради, если они перемешаны. Это кажется мне таким простым и очевидным, что я долго ещё пытался тогда объяснить родителям – доверительно, приглашая тоже видеть, чувствовать это вокруг.
Когда мамочка поняла, что я не шутил и не пытался её разозлить, она закрылась на кухне с папочкой и говорила, и делала паузы – но я не подслушивал, просто читал. Мне так нравится читать, что я начал в три с половиной года (так папочка говорит), а сейчас медленно и неприятно жду, пока найдётся мне на полке что-нибудь незнакомое.
Потом родители знакомили меня с врачами и гладили по голове. Я правда не помню подробно, что тогда было, – мне хотелось вернуться к книжкам и всей остальной комнате. Меня просто успокоили, что всё будет хорошо, но я заболел, и что это обязательно пройдёт, но я должен им помогать. Я очень хотел помочь мамочке и папочке, но мне так сильно хотелось в свою комнату.
Когда мне было девять и я тосковал, что так некрасиво будут скоро две цифры вместо одной – там, в моих ответах друзьям родителей; а меня спрашивали о них всё реже, – мамочка уже давно подружилась с врачами, но всё больше хмурило её брови то, что они говорили ей, поболтав со мной. Она сама сидела со мной рядом несколько часов – каждый день, в последний день недели чуть меньше. Мы читали вместе, она просила меня написать разные слова, но я больше не хотел рассказывать ей о том, что невесомо лежало над нашими занятиями. Я знал, что она зайдёт – она заходила почти в одно и то же время; жаль, что не совсем, – и тогда теребил вазочки на столе, пытаясь поставить их некрасиво, чуть стягивал одеяло с кровати и иногда вынимал две книжки, чтобы положить раскрытыми страницами на пол. Хотя она ничего мне не говорила, я знал, что ей это нравилось, и очень старался не повторяться, а делать всё каждый раз по-новому.