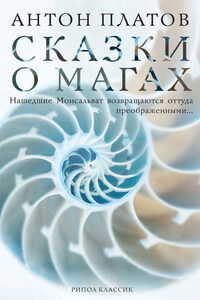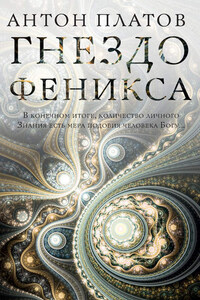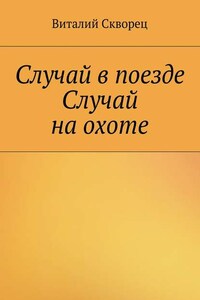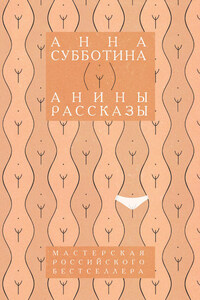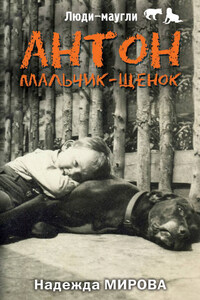Станция узловая
>(Дневниковые обрывки)
Станцию эту я странным образом вспоминал. Переплетение железнодорожных путей с гравийной засыпкой между шпалами, серое небо, запах угольной пыли, низкий бетонный перрон и вокзальчик: маленький, серый, с десятком вытертых до блеска деревянных сидений. И безлюдье, какое сложно вообразить.
Бывают воспоминания, о происхождении которых невозможно даже строить предположения, – они словно приходят из какой-то загадочной части нашей жизни, полностью вычеркнутой из памяти. Воспоминания о местах, где ты, как кажется, никогда не был, о событиях, которые невозможно восстановить…
Станцию эту я вспоминал отчетливо, хотя каждый раз немного иначе. Наверное, впечатались в ее образ северные карельские полустанки, где пассажиры ночами топят станционную печь, чтобы не замерзнуть, а проходящие поезда останавливаются на одну минуту, и заспанные проводницы забывают открыть двери. И вокзальчики русской глубинки с размеренно неизменным ожиданием дизеля или «кукушки», с обязательным дедом в кирзовых сапогах и телогрейке и с наглухо закрытой кассой…
Но воспоминание о той станции было реальным; реальным настолько, что порою я мучительно искал в своей памяти поездки, о которых мог позабыть, и выпавшие из памяти промежутки времени. Каждый «заплеванный пустынный полустанок» напоминал мне о ней и чем-то был на нее похож. Но каждый раз я чувствовал: нет, не она.
Я помнил, что там, на той станции, было у меня ошеломляющей силы чувство, что нет никого вокруг, ни одного живого существа, и я жду…
…Название станции я вспомнил, оказавшись на одноименной с ней, но вполне достижимой. Узловая. Три часа езды с Павелецкого вокзала Москвы. Подмосковный буроугольный бассейн; шахты, товарные составы, подвыпившие местные геологи…
Станция Узловая…
И я вспомнил.
Был серый полдень. Далекие холмы поднимались за постройками станции. Никого не было вокруг. Я вошел в вокзал, опустился на деревянное сиденье у стены. Я ждал.
И вот появились люди, несколько человек. Неторопливо и молча расселись они у стен. Мягкой давней решимостью и древней светлой печалью были озарены их лица. Никто не знал друг друга, никто не сказал ни слова – в том не было нужды. Я знал, что я один из них.
Времени не стало, и я увидел всю его потрясающую бесконечность. Не стало пространства, и сквозь стены вокзала я видел самые дальние звезды, и бесконечно близкими были они.
И когда каждый почувствовал, что нельзя больше оставаться здесь, мы встали и вышли на перрон, и каждый ушел в беспредельность своей Дороги…
Москва, 1994
Севастополь, как всегда, встретил меня ощущением изменения вероятностей.
Это сложно описать словами, но я почти уверен, что такое состояние доводилось испытывать многим, и потому не боюсь оказаться непонятым. В Севастополе это приходит ко мне, когда поезд покидает последний тоннель и расступаются инкерманские скалы, чтобы открыть взгляду Бухту, стоящие в ней корабли. В этот момент я не могу быть в купе, среди тетушек, суетливо упаковывающих яичную скорлупу и останки жареных куриц, я выхожу в прокуренный тамбур, чтобы там встретить последний тоннель и то, что откроется за ним. Стремительная, гудящая, наполненная перестуком колес темнота поглощает поезд, потом он вырывается из тоннеля, как из Врат, и мир, вновь открывающийся за окном, ощущается совсем иным. Остаются те же скалы и то же небо, даже тетушки со своими курицами, и все же здесь, за тоннелем, все совсем иначе.
Я перестаю быть уверенным. Я теряю уверенность в том, что сегодня, завтра, послезавтра не произойдет ничего чудесного. Порой мне кажется, что именно эта уверенность в удручающей простоте, в обыденности жизни и есть то, что заставляет нас жить обыденно и скучно.