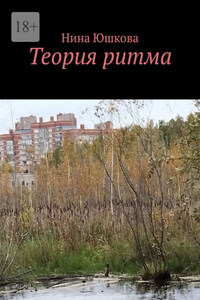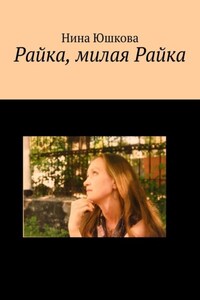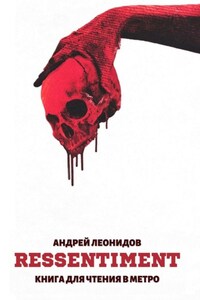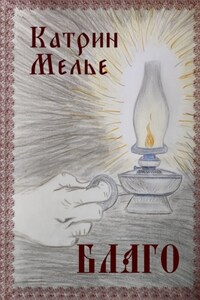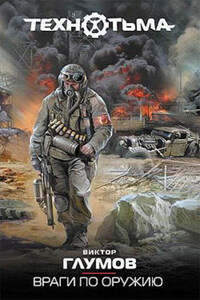Часть I
Затеваю этот роман, уже многие (бесчисленные, хочется сказать) годы находясь в унылом, сумеречном, вялом состоянии души, единственно с целью пережить ещё раз надежды и волнения своей юности, а также, конечно, и горе и разочарование, но горе и разочарование в воспоминаниях моих не так убийственны, как они были тогда, наяву, и всё-таки лучше, чем безнадёжная, беспросветная пустыня, упирающаяся в смерть, что лежит передо мной; а радости сделать более выпуклыми и смаковать их опять, долго, растягивая время описания, ибо не властны мы над реальным временем события, но имеем полную власть над временем воспоминания. (Однако признаю, что реальное событие, это нечаянное счастье, этот подарок судьбы, потрясает и душу и тело несравненно с памятью о нём.) И чисты воспоминания от неразрешённых проблем, ведь в прошлом так или иначе всё разрешилось, а настоящий момент частенько омрачён тенью дамоклова меча очередной проблемы, но не умею я наслаждаться жизнью в тени дамоклова меча. Возможно, и эта простирающаяся теперь передо мной пустыня приготовила мне такие удары, пред которыми прежние мои беды покажутся мелочью, но я искренне молюсь и уповаю на милость Божью, что пожалеет Он ближних моих, и, конечно же, не они будут темой моего романа, а люди ушедшие или отдалившиеся от меня на безопасное расстояние, чтобы, будучи занесёнными на страницы сии, не спровоцировать мстительной Судьбы, ибо она не терпит тех, кто слишком мозолит ей глаза.
Безусловно, многие описываемые события покажутся вам гипертрофированными под призмой моего личного восприятия, по сути мелкими, рядовыми, неинтересными, но тут уж, надеюсь, вступят в силу красоты стиля, которые, подобно солнечному лучу, пробирающемуся сквозь листья и делающему из воробья горихвостку, призваны скрасить серое и сыграть роль чуда.
Итак… Бабка моя, Щтольц Анна Михайловна, родилась в 1910 году и, поживши 90 с лишком лет, умерла уже в 21 веке, то есть совсем недавно от дня сегодняшнего. Воспитанная в большой семье обедневшей дворянской интеллигенции, среди прочих братьев и сестёр боннами и гувернантками, она, несмотря на то, что прожила весь 20-й (без первых 10 лет, разумеется), оставалась носителем той интеллигентской, дворянской, разночинской культуры, которая была свойственна веку 19-му и к которой принадлежали её родители. И никакого противоречия тут нет, совершенно естественным образом в ней уживались гордость за благородное происхождение, некоторое высокомерие по отношению к «пролетариату», и потребность брать на себя горести всех окружающих, вне зависимости от их социального статуса. Да, впрочем, вы увидите дальше, что я имею в виду.
Что-то было в ней такое, какое-то сито, плотина, шлюз, сооружённое, надо полагать, теми же боннами и гувернантками, что как бы отсеивало, фильтровало явления двадцатого века, пропуская внутрь только то, что органично связывалось с фундаментом, заложенном в детстве.
Показательным, как мне кажется, является встреча с самым ярким, самым знаковым поэтом нового (ХХ) века, сконцентрировавшем в себе всё то, что век ХХ мог тогда противопоставить культуре века ХIХ. Когда Маяковский выступал в университете, был большой ажиотаж, зал был битком набит, все шумели, галдели и старались всячески спровоцировать Маяковского. Бабушка с подружкой тоже написали записку: «Маяковский, почему у вас такая безобразная жёлтая кофта?» На что поэт им ответил в том духе, что мещане всегда цепляются за то, что необычно для их мещанского глаза, и не способны ухватить суть. Бабушка с подружкой очень устыдились. С тех пор, кажется, бабушка признала, что происходящее в культуре ХХ века нельзя отвергать полностью, хотя многое понять и принять не могла. И ещё бабушка говорила, что Маяковский был очень красив.