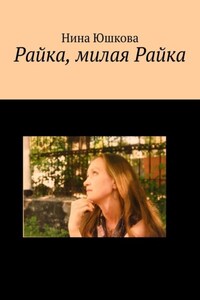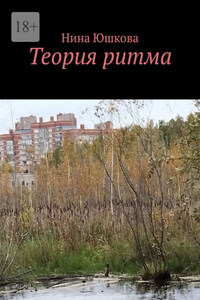Райка, милая Райка…
(Бульварная повесть)
Дуня Михельсон завыла дурным голосом. Опять аборт! Живот скрутило спазмом от воспоминаний о последнем походе к врачу. И вот – не прошло и трёх месяцев – опять! Пропади ты пропадом проклятая женская доля! Не помогало ничего: после бурного секса с Лёвкой вылетали спирали, таблетки вызывали тошноту и выпадение волос, а проклятая матка хавала сперматозоиды как с хлебом и норовила всех приютить, презервативы – отдельная история. Во-первых, Лёвка их ненавидел! А зачем секс, если мужчине он такой не нужен? Ей-то он уже после всех мучений не нужен никакой. Во-вторых, опять же после Лёвкиных ураганных атак, они рвались, спадывали, запутывались в Дуниной шерсти и просто через один были бракованными. Районный гинеколог Рудик, привыкший ко всему, философски встречал плачущую Дуню: «А шо ви хочете? Шобы у еврейской женщины шо-то пропадало? Шобы она шо-то выпустила, если уж к ней шо попало в руки? А тем более не в руки? Я вас умоляю!» Как иллюстрация этого во дворе дома бегали шестилетний Сёмка, шестилетний же Сашка (их разделяло ровно десять месяцев) и пятилетняя Сонька. Лёвка, пылкий в постели, проявлял нееврейскую холодность в добывании копейки. Так что Сонька за свою пятилетнюю жизнь не нашивала еще ни одного платья, помимо единственного, доставшегося ей от младшей дочери сводной сестры Лёвкиного шурина. А так всё в штанах, донашиваемых за братьями. «Что делать? Что делать?» – думала Дуня, за предыдущую пятилетку выполнившая план по абортам за себя и за всех работниц прилавка, трудившихся на Привозе. Вообще-то, по паспорту она была Дина, но её так давно никто не звал. Потому что она была нелепа и постоянно поминала свою любимую подружку, одноклассницу Дуню, которая в отличие от неё, была хваткая пройда, несмотря на рязанских родителей, перебравшихся сначала под Одессу, потом в Ростов, и, наконец, осевших в Херсонской области. «Сама ты Дуня», – говорили товарки на привозе, в глаза не видевшие сию особу, которая умудрилась окрутить московита и сейчас жила себе припеваючи в Российской столице. Наша же Дуня-Дина тоже преуспела в некотором роде: всё-таки Одесса – это не село Белогорка, откуда её взял замуж глазастый Лёвка. Но, похоже, на этом везение кончилось.
«Буду рожать», – как в прорубь головой бухнулась Дуня и успокоилась.
Лёвка выкатил и без того выпуклые глаза, схватился за голову и театрально запричитал: «Нет, эта женщина сошла с ума! Посмотрите на неё! Она будет рожать? А что она будет кушать, она подумала? А что будут кушать её дети, не говоря уже о муже, который совсем, видимо, у этой жестокой и безмозглой женщины в счёт не идёт? Она не видит, как торчат у него рёбра? Она не знает, какие наступили тяжёлые времена? Она будет рожать! Она так решила, она будет рожать! Вы её послушайте!» С этими словами он удалился во двор, по дороге взяв свою скрипку. Лёвка не был исключением в еврейской семье: он был научен играть на скрипке, и делал это виртуозно. Пальцы летали, смычок порхал. Но Лёвка был исключением в том смысле, что Господь не дал ему слуха. И его скрипка лихо фальшивила, да так, что начинали возмущаться все соседи. Мадам Фридман, которая жила под ними, не раз говаривала Лёвке, чтобы он не вздумал играть и тем паче учить своих детей, так как, если даже они родились со слухом, то при таком учителе они его потеряют. Но на Дуню напало некоторое оцепенение, ноги просто не несли её в сторону консультации, она пухла, пухла и в положенный срок стала рожать. В отличие от предыдущих родов, когда малюсенькие, тощенькие младенцы пулей из неё вылетали, на этот раз ситуация была угрожающей. Врачи ругались, что не встала вовремя на учёт, что плод большой, долго не могли решить кесарить или не кесарить, пока, наконец, измаявшись, чуть не отдав богу душу, Дуня произвела на свет огромную пятикилограммовую девочку. Лёвка, рыдая, бегал под окнами роддома, раскаиваясь в том, что совершил и намеревался совершить, и молил своего еврейского бога спасти ему жену. Сёмка, Санька и Сонька находились в это время под неусыпным присмотром мадам Фридман, которая рассказывала им о том, что их ждёт с появлением маленького конкурента. Девочку назвали Рахиль. Не без войны между мужем и женой, впрочем. Лёвка, визжа и топая ногами, пытался объяснить Дуньке, что с таким именем девка пропадёт, что ей нужно что-то нейтральное, желательно русское, например «Елена». Но странно изменившаяся с последней беременностью Дуня, спокойная, как удав, молча пошла и зарегистрировала ребёнка как Рахиль. Лёвка стал звать девчонку «Рая», братцам и сестре так тоже нравилось больше, в итоге имя закрепилось. Дуня не возражала, и Рахиль в быту оказалась Райкой. Райка-Рахиль была чудовищно прожорлива. Она высасывала и без того заморённую Дуню до полуобморочных состояний. Откуда только молоко и бралось. Росла Райка как на дрожжах, и, глядя, как это маленькое создание поглощает немыслимые количества пищи, Лёвка опять хватался за голову и испуганно бормотал: «Что с этим ребёнком? Нет, ты понимаешь, что с этим ребёнком? Она кушает, как биндюжник! В кого она вырастет?» К зависти хнычущей Соньки её младшей сестрице платья шились на заказ. Собирался триумвират: мадам Фридман со своим активом – машинкой «Зингер», Дуня с очередными мерками, снятыми с не по дням, а по часам растущей Райки, и шикарная Наташа Линич (бывшая соседка, в девичестве Бельская), вышедшая замуж за адвоката Линича, одевавшаяся как киноактриса и имевшая неистощимый запас платьев и кофточек для перекройки на маленького бегемотика. В ряду первоклашек Райка занимала столько же места, сколько три нормальных ребёнка. Но Дуня была счастлива. Она считала, что Райку ей послал Господь во избавление от мучений: после тяжелых родов, разворотивших все её нутро, она больше не беременела. И тут произошло чудо. Достигши одиннадцати лет, Райка стала стремительно меняться, и за какие-то три года превратилась в сказочную красавицу. Жирненький поросёночек вытянулся и приобрёл тело идеальных пропорций. Яркая, как южная ночь, Райка сияла миндалевидными глазами, тёмными и влажными, как первосортная черешня, ровные белоснежные зубки приоткрывались в ослепительной улыбке коралловых губок, что до носика, не то, чтобы по нему нельзя было сразу определить еврейскую девочку, однако ж, по сравнению с носами своих братьев и сестры, он был аккуратненький и милый. Общение с Наташей Линич тоже не прошло даром. Райка не только сама сызмальства научилась уничтожать усики над верхней губкой и волосы в прочих местах, где по современным меркам их быть не должно, но и научила этому старшую сестрицу и даже свою стареющую мать Дуню. Последней это настолько пошло на пользу, что Лёвка все чаще приковывал свой взгляд к жене, подозрительно недоумевая, с чего это вдруг она так похорошела. Райка тайком выщипывала даже и брови, но этим секретом не делилась ни с кем, и в отличие от Сонькиных бровей, толстой волосатой гусеницей ползущих по лицу и почти срастающихся на переносице, её брови точёными соболиными хвостиками разлетались к вискам, как на картинах старых мастеров, пытающихся польстить своим моделям. Мадам Фридман не упускала случая в разговоре со своими знакомыми ввернуть: «А вы видели, как младшенькая у Михельсонов похорошела? Таки девочка превратилась из гадкого утёнка в лебедь!» Между тем взрослела не только она. Братья её, неизбежно влившиеся в окружающую среду, в один не очень прекрасный момент оказались в КПЗ, что было не впервые, разумеется, но в первый раз серьёзно, так как схвачены они были на месте преступления, и пострадавший с разбитым носом и бланшем под глазом тут же накатал заявление по всей форме. Траур опустился на семейство Михельсонов. Лёвка, почти облысевший, отправился по родственникам с протянутой рукой собирать на хабар, Дуня и Соня орошали слезами мацу, и никто не заметил, как четырнадцатилетняя Райка исчезла из дому. За полночь – стук в дверь. Пока Лёвка просовывал заскорузлые когти на ногах в растянутые треники, Дуня, укутанная толстой фланелевой ночной рубашкой до пят, как броней, уже вопрошала: «Кто?» – «Мы, мама!», – родной до боли шёпот пронзил Дунино сердце навылет. Дрожащими руками она отодвинула щеколду. Сёмка и Санька ввалились в дом, грязные, вонючие, но целые и невредимые. «Мама, мама, нам надо слинять на полгодика, потом, когда всё уляжется, вернёмся. Все замнётся, ничего не будет. Не бойтесь, мама, только поспешите. Соберите нам в дорогу, мы пересидим у деда в Белогорке», – отводя глаза, метались братья по дому, хватая вещи и суя их в рюкзаки. Сдавленный крик вырвался из Дуниной глотки: «Вы убили охрану?!» Тут выползла Соня, ничего не соображающая со сна, и, наконец-то, приковылял Лёвка, разом пробудившийся от Дуниного вопля. «Шо вы такое говорите, мама?! И придёт же в голову! Тише, вы весь дом перебудите! Усё нормально, все живы, просто нас отпустили. Так получилось. Только сваливать нам надо по-тихому». – «Шо такое? Если отпустили, почему бежать?» – встрял Лёвка. «После, папа, после». – С этими словами Сёмка и Санька поцеловали мать, отца и сестру, похватали рюкзаки и скрылись за дверью. Долго еще Дуня, Лёвка и Соня пялились друг на друга выпученными глазами, друг у друга выпытывая же, что это было, что случилось, как Сёмке с Санькой удалось бежать, и что из всего этого выйдет. Потом всё-таки улеглись спать дальше. Лёвка вскоре захрапел, а Дуня всё ворочалась с боку на бок, тревога за сыновей прогнала сон. Стало светать, Дуня встала, закуталась в шаль и вышла на веранду. В соседских окнах было еще темно. И вдруг в свете зари она увидела Райку, сидящую на ступеньках лестницы. Зажав себе ладонью рот, давясь своим криком, Дуня кинулась с веранды на лестницу, схватила дочь за плечо и горячечно зашептала: «Ты как тут оказалась? Чего ты тут сидишь?» На что Райка, лениво вставая, с каким-то неуловимым презрением в голосе ответила: «Жаль будить вас. Ждала вот, когда проснетесь», и стала подниматься. Дуня шёпотом же заорала ей вслед: «Так ты шо, дома не ночевала? Ты хде была? Хде была, я спрашиваю?» Райкина спина слегка напряглась, но она продолжала так же медленно и уверенно подниматься. Вся в нехороших предчувствиях, обливаясь холодным потом, тащилась Дуня за ней. И только плотно прикрыв дверь квартиры и уже направляясь к себе в кладовочку, Райка бросила, не оборачиваясь: «А шо вы думали, мама, Сёмку с Санькой за просто так, на халяву отпустили? Надо ж было шо-то делать, слёзы нынче не в цене». Вот так просто обменяла Рая свою девственность, свою нетронутую красоту на свободу своих братьев. Тут уж Дуня, забыв про всё на свете, заголосила в отчаянии. Лёвка выскочил в трусах, вылезла Соня. Но Дуня замахала на неё руками: «Уйди, уйди», заставила вернуться в комнату и позволила мужу увлечь себя в супружескую спальню. Там, давясь рыданиями, ругаясь и молясь, заламывая руки, поведала она мужу, что натворила их младшая дочь. Нескончаемо длилась Дунина истерика, Лёвка вяло утешал её, сердце сдавило, как отец он должен был что-то сделать, но что? Он растерялся. Постучав, вошла Рая, как старшая, поглядев на свою мать, стала её успокаивать: «Мама, ну что вы устраиваете трагедию, как в 19 веке? Что собственно произошло? Ну, будьте же современны. Защищённый секс еще никогда никого не погубил. Кому нужна эта девственность в наше-то время? Вы лучше подумайте, какие замечательный связи я вам организовала. Капитан Мамыка кое-что может. По крайней мере, пока Сёмка и Санька не укрупнили масштабы своей деятельности. Хотя и он ведь пойдет в гору». Райка была совершенно спокойна, но Дуня безутешно рыдала и вопила: «Моя дочь! И это моя дочь! Где ты этого набралась?!» У Лёвки тряслись руки, но он молчал. Райка не была его любимицей, он всегда воспринимал её несколько отстраненно и как мужчина понимал, что такая красавица никогда не будет жить по установленным правилам. Но такой бытовой подход к первой близости его потряс. Однако ж время лечит все, особенно особенное время. Стояли лихие 90-е. Сёмка с Санькой заматерели. Сёмка, проявив полный советский интернационализм, связался с братьями осетинами Ирбеком и Муссой, получившими от отца, занимающего не последнее место в горкоме Владикавказа, целую партию ваучеров. Покрутившись в культурной столице России, они сколотили капиталец и приехали его наращивать в славный город Одессу, где и теплее и следы можно запутать. Их славное предприятие называлось «Неаполь», хотя первоначальная версия братьев была «Некрополь», и Сёмке стоило немалых трудов переубедить их и предложить что-нибудь столь же звучное, но менее пессимистическое. Санька наладил производство стекломоющей жидкости «Бриллиант» из ворованного спирта, за которой уже поутру стояла очередь из желающих опохмелиться. Алкоголики регулярно откидывали копыта от употребления данной жидкости, но Санькина совесть была чиста: на этикетке чёрным по белому было написано: «Не для внутреннего употребления». Соня превратилась в классическую еврейскую девушку, умную, послушную, домашнюю, с уже слегка отяжелевшей попой, и неугомонный Лёвка нашел-таки ей жениха. Илюшенька Лузберг закончил на золотую медаль математическую школу и с красным дипломом математический факультет университета, играл на скрипке. Но на этом его достоинства заканчивались. И Райка решила взять дело в свои руки. Раз, когда Илюшенька ожидался в гости, она подговорила одного из своих дружков затащить Соню в кладовочку, закрыть ей рот крепким поцелуем и помацать её хорошенько, да так, чтобы Илюшенька это увидел. Сценарий был реализован на 100 процентов. Оглушённый горем Илюша бежал, разбрызгивая скупые мужские слёзы, тормознутая Соня ревела белугой в своей комнате, а Райка имела деловой разговор с родителями. «И на что вам этот шлемазл? Или вы всерьёз хотите, чтоб ваша дочь билась в нищете так же, как вы? Это у вас называется желать счастья своему ребёнку? Кому сейчас нужен математический гений, тем более что ещё Моисей надвое сказал, гений Илюшенька или так? Если уж Сонька ни на что не годится, а это видно так и есть, я выдам её замуж, нате вам!» Злость и бешенство Дуни и Лёвки уступали железным аргументам. Они переглянулись. «Ну ты всё-таки отец!» – упрекнула Дуня. «А ты – мать!» – не менее возмущённо парировал Лёвка. После столь содержательного обмена мнениями они замолчали и, как утопающие, хватающиеся за соломинку, уставились на Райку. На следующий день Райка вызвала братцев и поставила задачу в лоб: «Таки если вам дорога честь сестры, надо выдать её замуж. И надо выдать её замуж хорошо, за приличного, обеспеченного человека. И не может жеж такого быть, чтобы братья не смогли ей подобрать надёжного жениха из своего круга. Например, как там насчёт Муссы и Ирбека?» Но оказалось, что у Муссы и Ирбека есть сговорённые невесты, которые ждут их во Владикавказе, что слово, данное семье невесты, нарушено быть не может. Тут Санька размотал одну из своих пружинных прядей, а потом намотал её на палец и задумчиво произнёс: «Вообще-то Соломон вдовец. Но ему уже под пятьдесят…» «Кто есть Соломон?» – начала допрос Райка. – «Да это мой поставщик спирта. Конечно, для такого старого вяленого бычка, как он, помацать свежатинку на законных основаниях будет привлекательно, но как же Соня? Молодой девке нужна упругая плоть, или я ничего не понимаю». – «Ну, если он – вяленый бычок, то наша Соня – варёная треска, идеальная пара! Саня, готовьте клиента, а готовность девицы – это моя забота». На том и порешили.