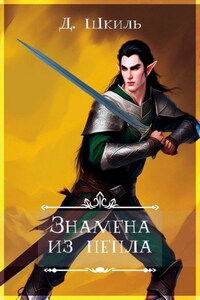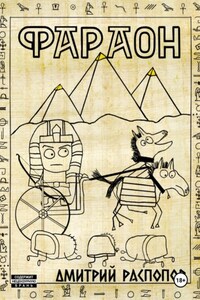Сквозь окно моего подъезда
Вадя Царитов живет в современной Москве и каждый день верит в лучшую жизнь. Он вынужден задыхаться от бедности, страдать от буллинга и биться с предвзятым отношением других людей. Но он не теряет надежды обрести уважение в школе, сбежать от неблагополучных дедушки с бабушкой и ждёт возвращения отца.Сердце Вадика жаждет перемен, и они наконец наступают, когда его отец приезжает с Крайнего Севера. Но тех ли перемен хотел Вадя?
| Жанр: | Современная русская литература |
| Цикл: | Не является частью цикла |
| Год публикации: | 2024 |
Читать онлайн Сквозь окно моего подъезда
Книга заблокирована.
Вам будет интересно