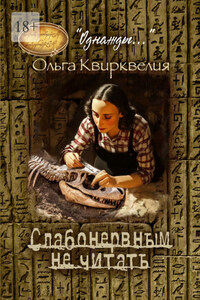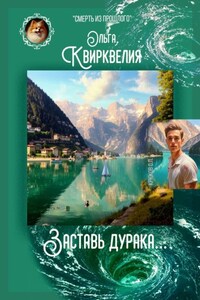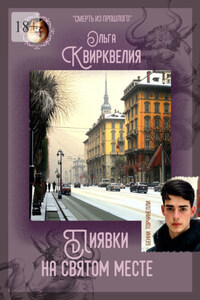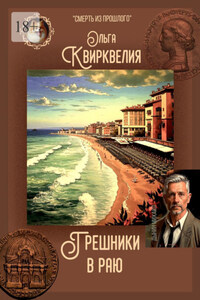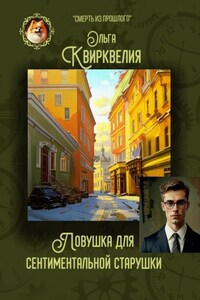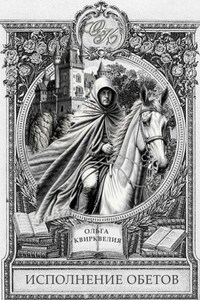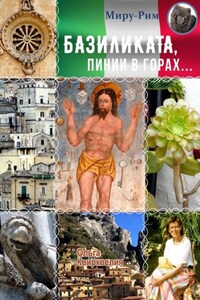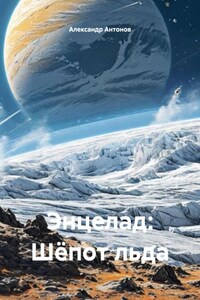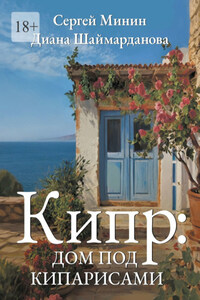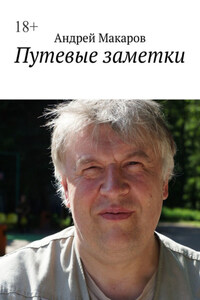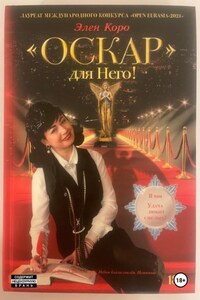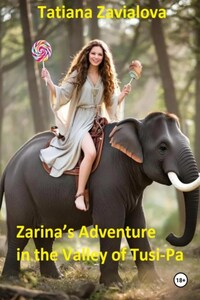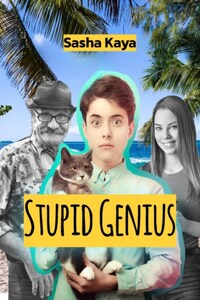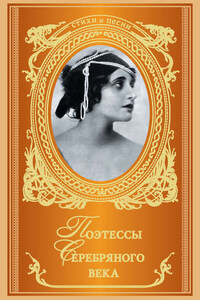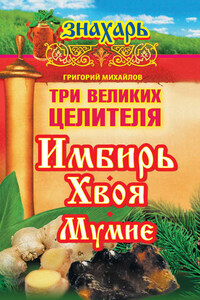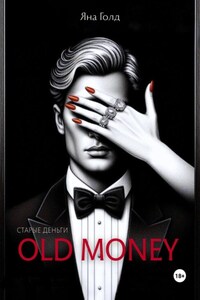Профессия археолога – что это значит? Чаще всего археология ассоциируется с экспедициями, раскопками, лопатами… Но это только одна ее сторона, так называемая полевая археология. Существует еще «кабинетная» археология, задачей которой является изучение собранного во время экспедиции материала.
Эти очерки – о полевой археологии, поэтому в них почти нет научных фактов.
Большинство археологов специализируется на каком-то одном типе памятников, принадлежащих к определенному периоду – каменному веку, эпохе бронзы, античности… Сами археологические памятники тоже различаются по типам: стоянки, городища, селища, могильники и т. д. Я занималась в основном могильниками – захоронениями.
Впервые я попала на археологические раскопки, когда мне было 12 лет. Нас, группу ребят, отличившихся при создании школьного краеведческого музея, привезли на древнее городище. Стояла поздняя осень, археологи уже закончили работу, и только ветер старательно подметал старые мостовые. Мы бродили но пустынным улицам, заходили в полуразрушенные дома, повсюду натыкались на груды черепков и битых кирпичей. Фантазия рисовала картины жестоких боев, отчаянья последних схваток… Мы не сомневались, что только вражеское нашествие могло погубить и опустошить это некогда богатое место. Много позже пришло понимание того, что город проиграл битву другому, незримому и гораздо более страшному противнику – Времени…
Притихшие, садились мы в автобус, а ветер все швырял и швырял нам вслед пригоршни желтых листьев…
Еще долгие годы мне снилось, как идут по дороге седой старик и понурый мальчишка – последние жители древнего города, а я бегу за ними и зову, но они не оглядываются… Их нет, но они были. В этом смысл нашей работы – познакомиться с теми, кого уже нет.
Моей первой специальностью была археология. Я с 8-ми лет, прочтя знаменитую книгу К. Керама «Боги, гробницы, ученые», мечтала стать археологом. Но я была очень болезненным ребенком и мечта казалась несбыточной. В 12 лет я записалась в археологический кружок и увлеклась реставрацией. Это очень тонкая работа, требующая усидчивости, терпения и хорошей моторики и чувствительности рук. Потом я все-таки выбралась из своих болезней и меня стали брать в экспедиции, но, конечно, не «на лопату»: копать мне все еще было нельзя. Зато мои натренированные руки очень пригодились при расчистке находок, особенно мелких и хрупких. Так у меня появилась специализация – еще до специальности. К поступлению в университет у меня уже был неплохой опыт. К тому же стало понятно, что мне нравится именно моя работа, я не хотела стать начальником экспедиции, найти новый интересный памятник… Наверное, я по характеру бродяга: меня стали приглашать в разные экспедиции – в результате я многое увидела и многое повидала: степи Ставрополья и пустыню Каракумы, леса средней полосы и горы Памира, Крым и Кавказ.
Потом подросли мои дети, им пора было идти в школу, а археологический сезон длится с мая по октябрь – я стала ездить реже. К тому же после окончания истфака меня взяли на работу в лабораторию математических методов Института истории СССР – математику я полюбила еще раньше, чем археологию, я применяла ее и к исследованию археологического материала (моя самая первая статья, написанная еще на третьем курсе, была именно о математическом моделировании процесса создания мезолитических орудий). Но на новой работе приходилось заниматься и письменными источниками. И постепенно я стала чистым историком. Бурное десятилетие рюкзаков и палаток, находок и открытий кончилось…