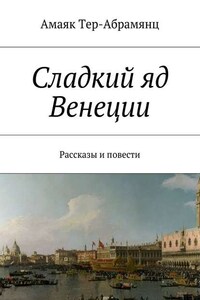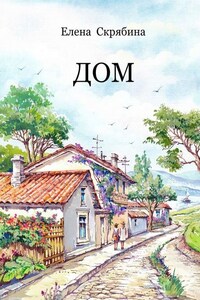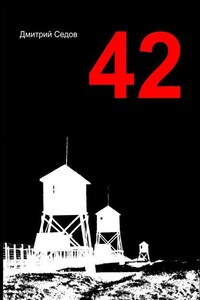С ней уходил я в море
С ней покидал я берег,
С нею я был далеко,
С нею забыл я близких…
А. Блок
1.
Знакомая с детства песня вдруг послышалась откуда-то. Казалось, где-то за стенкой работало радио. Аккуратно высвободив себя из-под руки спящего мужчины, она вскочила с кровати в чем мама родила, подбежала к окну, растворила жалюзи, и на нее пахнуло свежестью утренней Венеции. Майское небо было акварельно голубым с легкой позолотой над черепичными крышами и совершенно чистым, зеркальная вода в канальчике кое-где легко рябилась. Нет, это было не радио: эту песню распевал самый настоящий гондольеро, работая длинным желтым веслом (они с Вадимычем, опытным рыболовом – сибиряком, еще вчера, сидя в гондоле, удивлялись, как это получается – гребет веслом только с одной стороны, а лодка идет прямо!). Ну конечно же, это была «Санта-Лючия»! Та самая «Санта-Лючия», с которой в детстве у нее начинались уроки на пианино, когда ей только-только ставила руку соседка-музыкантша, и над нотным станом рисунок был: гондола, гондольер, луна… Только сейчас было раннее утро, и гондольер не стеснялся кому-нибудь помешать, разбудить (знал ведь, подлец – прекрасное может только понравиться!), пел полным звучным голосом, пел вечернюю песню, видимо в шутку, без которой настоящий итальянец не может прожить и минуты – соломенная шляпа, перехваченная красной ленточкой, смуглая жилистая шея, голубая матроска… пел непонятные слова прекрасного языка, становящиеся в мелодии еще более прекрасными, в которых различалось только одно знакомое – «Санта-а Лючи-ия! Са-анта Лючи-ия!»… Напротив, через канальчик, такие же кажущиеся безлюдными в этот час дома, гостиницы с жалюзи, висящие над водой цветы, балкончики, терраски… многие окна открыты и темнеют полости комнат, скрывающие еще чье-то счастье… Ведь это был город счастливых, алкающих счастья приезжих и путешественников – местные жители давно почти все переселились на материк в Мэстрэ, а все эти дома и дворцы превратились в гостиницы, музеи, магазинчики, ресторанчики… и со всего мира сюда приезжали веселиться, смеяться, любить… Казалось, она никогда за всю жизнь в России не видела столько ни к чему не обязывающих улыбок, часто совершенно ни к кому не обращенных, сколько за один только вчерашний день. Это был город счастья, созданный, приспособленный только для счастливых. Гондольер распрямился, вдруг перестал петь на полуфразе (хочу пою, хочу – не пою!), она увидела его обветренно-смуглое лицо. Широко и белозубо улыбнувшись, он приветливо помахал ей и послал воздушный поцелуй, и она, прикрыв левой рукой соски, помахала ему и тут почувствовала, как большая мягкая рука легла ей на плечо, и даже не обернулась, не шевельнулась, ведь это была своя рука.
Вадимыч проснулся сразу как только она встала, и любовался ею, удивляясь. Ну что за чудо, что за попка, прямо-таки итальянская – подумаешь, какие-то там Феллини!… Может, потому что у нее четвертинка еврейской крови? Ведь София Лорен тоже еврейка… И дался же ему на склоне лет такой подарок. И дело тут уж вовсе не в попке, их-то навидался – всякие там медсестры, лаборантки, ординаторши, аспирантки… Тут было еще что-то совсем другое, необыкновенное, внутреннее… Ведь это был даже не секс в обычном растиражированном понимании, а нечто ни на что прежде бывшее непохожее. «Когда сливаются дыханья и тела два становятся единым – все это сексом называют любви не знающие…» Кто это сочинил и когда, он не помнил, да это и не имело сейчас никакого значения. Это была совсем не та любовь, чем те, которые ему пришлось пережить за свои почти шестьдесят лет. Он любил эту годящуюся ему в дочери девушку любовью мужчины, любовью отца, смутно предчувствуя в ней свою последнюю лебединую песню, и потому эта любовь была особенно острой. Он стоял, обнимая ее, позади были долгие годы нелегкого труда, строительства семьи и воспитания дочери, годы научной работы, создания кардиоцентра, защиты докторской… Да, нелегко ему, выходцу из Сибири, было пробивать себе дорогу без высоких покровителей в Москве, а теперь у него признание не только в России, но и за рубежом!… И вот она, награда за все, возможность стоять рядом с этой женщиной и обнимать, как свою, и смотреть вместе на Венецию, все прежнее, как ему сейчас показалось, существовало именно ради этого мига, когда он стоит, обнимая ее, открыв утреннему итальянскому ветерку свою широкую, с седыми вьющимися волосками грудь, положив ей руку на плечо, и они смотрят (мог ли он вообразить себе нечто подобное лет пятнадцать-двадцать назад!?) на настоящую утреннюю Венецию! И гондольер, увидев его, приветливо помахал теперь им обоим: «Бон джорно!» – весело выкрикнул он, вновь обратясь к своему веслу, а он отсалютовал в ответ подобно римским легионерам свободной рукой, не отрывая другую от талии любимой женщины.