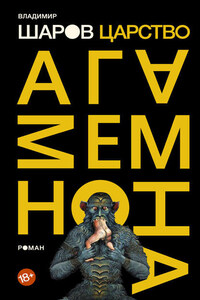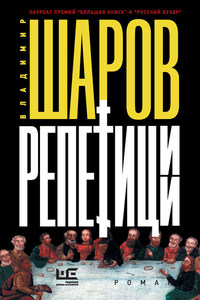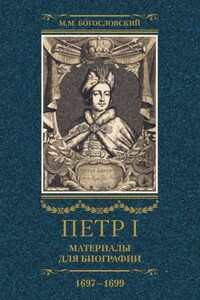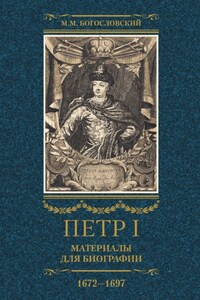Эти записки я начал собирать из многочисленных разрозненных заметок в феврале 1979 года, через два года после смерти моего приемного отца Федора Николаевича Голосова, их главного действующего лица, а по большей части и автора. Соединить отдельные воспоминания, дополнить их до целого (здесь мне во многом повезло) было моим долгом перед умершей, пресекшейся на нем семьей Федора Николаевича. Как приемный сын я тут не в счет.
После этого предисловия и до самих записок мне кажется нужным сказать несколько слов о последних годах жизни Федора Николаевича и объяснить, почему я был усыновлен им.
Мое имя Сергей Петрович Колоухов. Со стороны матери я принадлежу к коренным воронежцам; судя по дворянской росписи конца XVII века, ее предок вместе с набранным отрядом низовых казаков был поверстан на службу в 1698 году и получил землю недалеко от Воронежа в Епифанском уезде. В 1862 году, сразу после крестьянской реформы, семья ее продала маленькое поместье, которое у них еще оставалось, и перешла в широкую и многоликую группу разночинцев, дед со стороны матери учительствовал и в начале ХХ века был директором Первой воронежской мужской гимназии, состоя в чине действительного статского советника. До сих пор живы ученики этой гимназии, которые его хорошо помнят. Моего деда по отцовской линии судьба кидала из стороны в сторону больше, чем родителей матери, но и он по тем временам прожил жизнь вполне спокойную. Родом он был из Сибири, из-под Омска, в 1910 году поступил в Дерптский, ныне Тартуский, университет и там учился у знаменитого в то время ботаника Козо-Полянского. В шестнадцатом году, после защиты магистерской диссертации, он был оставлен при кафедре для подготовки к профессорскому званию, а в восемнадцатом, после начала эстонской независимости, вместе с русской профессурой и большей частью библиотеки, вместе с тем же Козо-Полянским, относившимся к нему как к сыну, переехал в Воронеж, где осел. Его сын и был моим отцом.
Хотя я всё свое детство прожил в Воронеже, до двадцати лет надолго никуда из него не уезжал, знаю в нем каждый дом, каждую улицу, знаю многих людей, живших на этих улицах – у матери и отца был, что называется, «открытый дом», к нам ходили чуть ли не все, кто был связан с университетом, – словом, хотя город должен был быть для меня живым из-за людей, связей, воспоминаний, так никогда не было. Массивные, низкие, как будто недостроенные дома, длинные, как туннели, пересекающие весь город улицы (память о Петре и Петербурге), по которым зимой дуют степные заволжские ветры – в детстве я больше всего боялся, что они унесут меня, – к нам эти ветры приходят со стороны Саратова, но родина их дальше, в казахских степях, и еще дальше, в Сибири. Город и сам казался мне родом оттуда. Конечно, я не прав, и он все-таки живой; здесь родилось несколько хороших писателей, поэтов, художников, отсюда и любимый мной Андрей Платонов.
В нашем городе был и до сих пор есть некий налет столичности, десяток монументальных зданий, балет, – всё это память того краткого периода, когда он был столицей огромного Центрально-Черноземного края, а потом, по слухам, должен был стать столицей РСФСР, однако куда больше в нем от лишенца. Воронеж был обманут и с Россией, и со старой областью, от которой перед войной оставили ему едва треть, но обманут, особенно по тем временам, не жестоко, не страшно.
После революции здесь осели очень многие: и тартуская профессура, и те, кто переехал сюда в пору взлета Воронежа, а потом уже не имел сил снова подняться и искать другого. Все они довольно быстро смешались со старыми, коренными воронежцами, благо пустых, брошенных своими мест было много, бежать отсюда было легко – до Дона, Ростова, Кубани, Крыма рукой подать. Слившись, эти разные и опять-таки разночинные интеллигентские толки снова начали ставить любительские спектакли, играть в бридж и буриме, а под Новый год крутить тарелки, снова, как и раньше, в домах весь январь не убирали маленьких пышных сосенок, которые здесь наряжали вместо елок, – длинные иглы их почти не опадали.