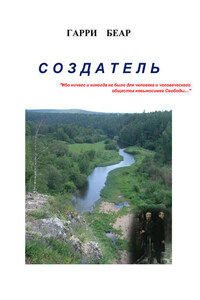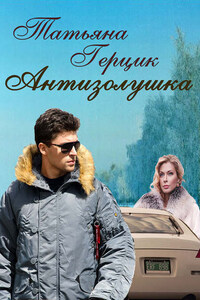В самолете они не разговаривали. Сидели рядом, в соседних креслах, изнывали молчаливой натугой. Дурацкая ситуация, конечно. Молчание – мука мученическая. Казалось, оно даже материальное устройство имеет, омерзительное на ощупь, холодно студенистое. Причем Вика переносила молчание куда хуже, она это кожей чувствовала. Да что там кожей – всем насмерть перепуганным, впавшим в состояние ступора организмом. Но заставить себя повернуть голову, заговорить о пустяках – не могла, хоть убей… Тем более Вика прикинулась крепко спящей, даже посапывала и похрапывала слегка. Старалась, бедная. Тоже, нашла выход из положения – удариться в театральщину. Кишка тонка даже для такого бездарного спектакля.
Нет, вообще-то спасибо ей, конечно. Да, так лучше. Пусть «спит». Было бы хуже, если бы сидела в своем кресле и таращилась на нее с немым вопросом в глазах – как ты, Машенька? Чем тебе помочь, дорогая подруга? Любимая, единственная? Еще бы и вздыхала при этом, и губы поджимала в горестной озабоченности. Причем совершенно искренне бы все это проделывала, без дураков…
А только от этого не легче, что без дураков! Пусть уж лучше с дураками…
А впрочем, какая разница? Ситуации позора (нет, а как еще назвать то, что случилось?) это все равно не отменяет. И свидетели позора никому не нужны, хоть с дураками, хоть без дураков. Свидетели счастья – это да. Потому что свидетелям счастья даже зависть прощаешь. Хоть никто и не признается никогда, что втайне закусывает вино собственного счастья чужой завистью. Пусть и не настоящей, а белой и пушистой, как Викина. Очень ведь легко выдать эту белую и пушистую за благо привязанности к чужой семье… Вот Вика и выдает, сама себя обманывает. И всех эта нежная дружба-привязанность устраивает – и Сашу, и ее, и саму Вику. Вернее, устраивала…
А с другой стороны – зря она к бедной Вике привязалась. Нашла в кого своим ужасом плюнуть. Чем больше его выплевываешь, тем больше он внутри разрастается, как на дрожжах. Ужас-мутант. Ужас – атомный гриб. Ужас-убийца, змея-анаконда. Вот, опять подкрался к желудку, пополз вверх тошнотой.
Нервно сглотнула, зубы сжались намертво, будто прикоснулась к оголенному проводу. Не выдержала, закрыла глаза, простонала тихо. Стон получился жалобный, Вика напряглась, замерла «во сне». Медленно приоткрыла веки, чуть повернула к ней лохматую голову:
– Маш, ты чего?
– Ничего. Спи.
– Тебе плохо, да? Может, пакетик у стюардессы попросить?
– Нет. Не надо.
– Ну, не надо так не надо… – Вздохнула, вытянула шею, всмотрелась вдаль. И снова проговорила голосом терпеливой матушки, ублажающей капризное дитя: – Маш, а там еду скоро начнут раздавать… Будешь? Вроде мясом аппетитно пахнет…
– Нет!
– А почему, Маш?
– Потому что меня тошнит.
– Ну, вот… А говоришь, пакетик не нужен… – вздохнула Вика.
Зануда. Какая же Вика зануда! Окутывает навязчивой заботой, как пыльным и душным покрывалом, не продохнуть… Наверное, и впрямь себя святой мученицей представляет. Инфантильный ребенок Машенька капризничает, а ей, бедолаге, ничего, кроме молчаливого терпения, не остается!.. Вон как глянула – с грустным смирением. Мать Тереза, ни больше, ни меньше. А ведь точно – так себя и представляет! Иначе не взяла бы на себя такую ужасную миссию! Миссионерка, черт бы тебя побрал… Даже думать противно, и разговор про «пакетик» поддерживать противно. Лучше к окну отвернуться. Да, вот так. У тебя миссия, а у меня демонстрация обиженной инфантильности. И отстань, и не лезь… Выполнила миссию и радуйся…
За окном было неинтересно. Белая облачная пустыня, рыхлая, как залежавшийся к марту снег. Никакого просвета. И все равно – лучше в окно смотреть, чем на Вику. И думать… Думать, наконец! Не корчиться от страха, не горестно изумляться, а думать! Думать, как дальше жить. Если все это правда, конечно. Если Вика ничего не напутала. Если Саша действительно так подло придумал… С этим отпуском в Испанию…