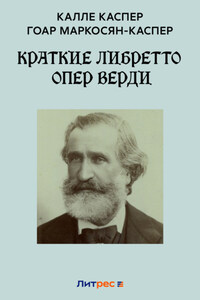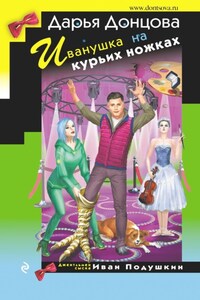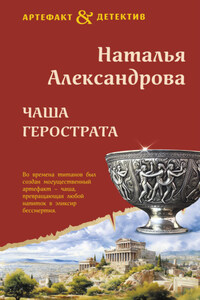Завтрак проходил, как обычно: Калев мгновенно проглотил свою порцию геркулеса с изюмом, за ней – бутерброд с колбасой, тост с сыром и полпачки творога со сметаной и тертой клубникой, хранимые в холодильнике запасы которой аккуратно возобновлялись в каждом июне, отпил глоточек кофе, еще слишком горячего, чтобы залпом осушить кружку, и встал.
– Пойду за газетой.
И, не дождавшись поощрения, задержавшегося не столь от бессмысленности, сколь от хорошего воспитания – кто же разговаривает с набитым ртом – отправился за оной, а Диана с грустью подумала, что раньше супруг в адекватной ситуации выражался иначе: «Пойду за почтой», имея в виду, прежде всего, письма. Но писем они не получали давно, то есть, получали, но не материальные, а… космические, что ли, раз переправлены через космос… Даже конверты со счетами в почтовом ящике обнаруживались все реже.
Рацион у супругов был одинаков, но темп его уничтожения отличался, и Диана только-только добралась до аппетитного, золотистого тоста, накрытого, увы, безвкусным эстонским сыром нового времени (а раньше были такими сухими, твердыми!), как Калев снова уселся напротив нее.
И все было как всегда: нарядно накрытый стол, темно-синие стеклянные кружки, гармонирующие и с люстрой тех же тонов, и с занавесками, и муж, сейчас, без очков, может, не с таким умным видом, но из-за этого не менее любимый.
Интересных новостей в газете как будто не было, Калев равнодушно перелистывал страницу за страницей, и только когда дошел до предпоследней, остановился.
– Надо же, прототип умер!
– Который из них?
Диана вылизала ложку с остатками клубники, и стала вся внимание: прототипы – это важно, они – часть жизни писателя. Обычно они обижаются, перестают общаться, но иногда, оказывается, и умирают.
– Такого персонажа, как Фердинанд, не помнишь?
– Из «Идеалистов», что ли?
– Да.
Диана задумалась.
– Смутно. Это тот, который поклялся очистить святую эстонскую землю от следов русских сапог, сапожек и туфелек?
– Он самый. В жизни – Роберт Роосте. Нержавейка, как его звали[1].
Диана хихикнула, и сразу устыдилась – человек ведь умер…
– С ним еще случился потом какой-то скандал, не так ли? – вспомнила она.
– Ну да, его избрали в парламент, он продержался почти два срока, и вдруг обнаружилось, что у него, кроме законной жены – эстонки, имеется русская наложница. Последние его два ребенка родились в один и тот же день – но двойняшками они не были.
– И как это всплыло?
– Чуть ли не из моря. Он отправился вместе с русской на…
– Вспомнила! На какой-то греческий остров!
– На Санторин.
– И там напился вдрызг и стал к ней публично приставать.
– Не к ней, а к какой-то англичанке. Или шведке. И даже не к одной, а к двум.
– Англичанкам?
– Или шведкам. Те плавали в бассейне, он тоже нырнул, причем в одежде, и начал их тискать. Правда, те вроде не очень возражали. А вот русской это не понравилось.
– И она, кажется, плеснула ему коктейлем в лицо.
– И кофе. И не только в лицо, но и в другие части обнаженной плоти, костюм ему все-таки мешал, и он исполнил стриптиз в воде. А еще он укусил одну из шведок…
– Или англичанок.
– Нет, кажется, все-таки шведок. В бедро. Ему не повезло, может, и обошлось бы, мало ли, что за привычки у северных варваров, но там оказался финский журналист, тот нащелкал кучу фотографий, и опубликовал улов в родной газете. Дескать, вот как развлекаются эстонские парламентарии… Наши сперва пытались замять дело, как-никак, борец за свободу, пострадал от советской власти, но узнала жена – эстонская жена – и сама выложила всю подноготную желтой прессе.
– И его вытурили из Госсобрания?
– Что ты! Кто же за такую мелочь вытуривает. Но политическая карьера на этом все же закончилась. Из фракции выкинули. Из партии вышел сам. Отсидел формально до конца срока, на сессии почти не ходил, и все.