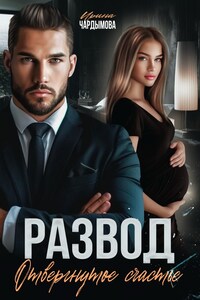.............
…Он плавал в своих грезах. Настолько теплых, заманчивых, настолько прекрасных, что выныривать в реальность решительно не было желания.
Реальность была жесткой. ЖестОкой. Реальность была болью. Волнами боли. Накатывающими с равномерностью морского прибоя. Периодически боль переходила в шторм.
Пока не подходило время приема обезболивающего.
И тогда он заново возвращался в золотой, солнечный сентябрь. И снова ждал появления той, с кем едва познакомился в реальности (этой реальности, есть ведь и другие, он был уверен – есть. Параллельные, перпендикулярные, идущие “голова в голову”, но есть.)
В своих грезах он видел ее (её) отчетливо. И не только видел. Он ее слышал. Более того. Он ее осязал.
Но лишь в своих грезах.
А после этих грез (назовем, наконец, вещи своими именами – наркотического опьянения, опьянения опиатами) наступал тяжелый, “лекарственный” сон. Тьма подкрадывалась на своих бархатных (кошачьих, бесшумных) лапах, и одну из этих лап возлагала на его лицо и тихонько, мысленно приказывала ему “Спать” (спать без снов), а он был слишком слаб, чтобы противостоять воле Тьмы. Тем более, что Тьма вовсе не была злой. Не была холодной и колючей, как морозная зимняя ночь… она была коварной, но очень приветливой. И желанной.
Поскольку во Тьме не было боли.
Боли – от самой сильной до терпимой. Ноющей. Впрочем, о ноющей боли он мог пока только мечтать. В основном, приходилось стискивать челюсти, чтобы не заорать, не начать биться головой о стену, не начать крушить всё вокруг… Но он был беспомощен. Его поломанные конечности (обе ноги, бедро, рука (к счастью, левая, Волконский был правшой), треснутые ребра, поврежденные внутренности… они буквально кричали, причем, каждый – своим голосом, и в этой дикой какофонии боли он уже не ориентировался, на каком свете находится, может, это и не объективная реальность (данная нам в ощущениях, привет, университетский курс философии), может, это то, что католики называют “лимб”, а христиане – чистилищем. Видит Бог, он это заслужил, более чем…
Однако, здоровый, тренированный и еще достаточно молодой организм делал свою работу. Кости срастались, ткани восстанавливались. Лекарства действовали. И с сильных анальгетиков его постепенно начали переводить на более слабые. И мозг понемногу прояснялся.
Однажды он посмотрел в больничное окно и… удивился. Все еще зима? Увы, грёзы о солнечном сентябре являлись лишь грезами.
– Сколько я тут уже пробыл? – обратился он к лечащему врачу.
– Двадцать два… нет, считая сегодняшний, двадцать три дня. Вы, дорогой мой, в рубашке родились. В коме пробыли трое суток.
– В коме? – голова все еще была слишком тяжелой, чтобы осмыслить услышанное.
Глаза эскулапа за стеклами очков в тонкой оправе были очень серьезными. Строгими. Внимательными. Сергей навскидку прикинул его возраст – от сорока пяти до пятидесяти, причем, ближе к пятидесяти.
– Что вы помните? Почему здесь оказались?
– Авария? – малейшее мыслительное усилие вызывало боль. И тревогу. Почему-то тревогу. По меньшей мере, беспокойство.
– Именно. То, что выжили, можно считать чудом. Каким вас к нам доставили… в прямом смысле места живого не было. Вы перенесли три операции.
– А сейчас? – он внутренне похолодел, боясь услышать что-то вроде – “паралич”, “нарушение двигательных функций” или еще какой-нибудь поганый сюрприз, вернее приговор. Хотя то, что он находится в сознании, может разговаривать и даже дышит не при помощи кислородного аппарата, уже вызывало колоссальное облегчение.
– А сейчас у вас одна задача – идти на поправку. Предупреждаю – будет нелегко, процесс полного восстановления займет месяца два, и это будет не увеселительная прогулка, – губы врача затронула короткая улыбка.