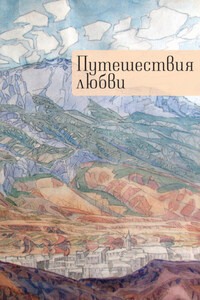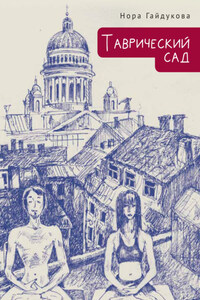Соловьи поют только на Родине
– Ты ещё здесь?!
Он посмотрел на меня с недоумением
– Это неосмотрительно, безрассудно, недальновидно, в конце концов!
– Я тебя не понимаю. – Ответил он и подошёл ближе. – Разве что-то изменилось за это время? Что… кто принудит меня оставить тебя и бежать? Или ты охладел ко мне?
Подобные выяснения отношений всегда тяжелы. В попытке отыскать поддержку на небесах, я поднял глаза, но небо было безоблачным, там не оказалось ни единой, самой маленькой тучки, которую можно было бы призвать в союзники.
– Да пойми, бедовая твоя голова, ты мне более, чем мил, но соловьям положено зимовать в тепле.
– А что, разве ты не пустишь меня к себе, когда будет мороз? – Беспечно поинтересовалась птица.
– Сомневаюсь, что тебе захочется сидеть взаперти. – Резонно ответил я.
Переступая по тонким веткам вишни, как по лесенке, соловей взобрался мне на руку.
– Ничего?
– Да, пожалуйста! – Разрешил я.
– Не больно? – Поинтересовалась птичка, имея в виду острые свои коготки.
– Нет. – Рассмеялся я. – Щекотно немного, а так ничего, хорошо даже. – Знаешь, говорят, что ты скрытный, чураешься людей, и тебя невозможно увидеть.
– Так то людей… – Туманно заметил соловушка и повертел головой, разминая шею. – Обратил внимание, вишня зацвела? – Кивнул он в сторону трёх нежных до прозрачности, белых цветочков. Само дерево давно уж было совершенно раздето, и тут, в первый день осени, такая вот неожиданность.
– Да, видел. Грустно.
– Отчего ж?
– Не вовремя. Ягодам-то, всё одно, не быть. Впустую… как бы.
– Цветение никогда не бывает напрасно! – Не согласился соловей, но тоже очевидно загрустил.
Вздохнув, он переспросил:
– Я хочу быть уверенным, что не совершаю ошибки. Ты не передумаешь? Я должен лететь?
– Увы. – Кивнул я.
– Ладно. – Согласилась птица, и добавила. – Только учти, я заранее отказываюсь петь в тех краях, и никому не доведётся насладиться моей соловьиной трелью.
Признавая бесспорное право птицы петь лишь там, где её душа не может молчать, осторожным прикосновением я пригладил выбившееся из крыла пёрышко, и прошептал:
– Настоящий соловей поёт только на Родине1. – И добавил. – Лети смело, и возвращайся. Мы будем тебя ждать.
– Мы? Это ты про него? – Усмехнулся соловей в сторону лягушонка, что сидел у моих ног. Взирая снизу вверх, тот сочувственно прислушивался, да переводил доверчивый взгляд с соловья на меня и обратно.
– Не только. – Улыбнулся я. Все, кто останется здесь, будут думать о тебе и чаять услышать вновь. А ты не отчаивайся. Расскажешь нам после, что там почём2.
– Расскажу! – Пообещал соловей.
Наутро даже ветер не тревожил оставшейся на вишне немногой листвы, а три белоснежных цветка, удивляя собой шмелей, всё ещё были на прежнем месте.
– Белым флагом признавшего своё бессилие перед грядущими холодами?
– Отнюдь. Той, незамутнённой сомнениями совестью, что как Родина, которую невозможно потерять.
– По собственно воле?
– Если она есть…
Где-то вдали, последняя в году гроза раз за разом дробно била в барабаны, будто назавтра ей предстояло выступить перед публикой, и теперь она усердствовала, дабы не ударить лицом в грязь… Хотя нечистоты после себя она оставляла, по обыкновению, немало.
Всё, не укрытое черепашьим панцирем мостовой, делалось непригодным для прогулок, хотя и привлекало взгляд, ибо сияло, блестело, переливалось в тех лучах, что солнце роняет нечаянно в сумеречный день через прореху облака, но спохватившись скоро, подбирает назад, и дремлет после, как ни в чём не бывало, до следующего погожего дня. А вот когда случится такой день? Как знать, как знать…
Ветер играл помпонами клевера белой шерсти, тянул их из-под носа шмелей и пчёл, что трудились не покладая крыл в виду грядущей затяжной непогоди, набивая кладовые сот, чем только можно и покуда это было возможно. Собранный ими мёд едва ли не бродил уже в самих стенниках