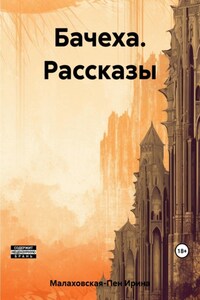Уроки музыки
Не известно, почувствовал ли Мишка что-то такое, но в одно солнечное воскресное утро он проснулся, как всегда сложил в специальную чёрную папку ноты, которые стояли на пианино, и решительно вышел из дома.
Когда-то он не поступил в музыкальную школу, не сумев пропеть ни одну из предложенных нот и не повторив ни одну из простых мелодий, наигранных экзаменатором, поэтому мама нашла для своего толстенького чада преподавательницу, которая не без успеха вдалбливала в мальчика фортепианные премудрости, и к исходу пятого года обучения он уже мог играть сложнейшие сонаты Моцарта и Баха.
Муза Казимировна была из "тех", по крайней мере так говорили все вокруг. Она могла бы без проблем сыграть в кино роль матери какого-нибудь белогвардейского офицера, сбежавшего во Францию, и в её квартире не нужно было даже менять интерьер – всё абсолютно соответствовало "той" эпохе, даже пианино, по бокам которого красовались два бронзовых канделябра с живописно оплывшими свечами. Оно не было чёрным, как все пианино, которые Мишка когда либо видел. Оно было коричневое, с потёртыми углами, с искусной резьбой и пожелтевшими клавишами, но несмотря ни на что звучало божественно.
Иногда ученик заставал у Музы Казимировны настройщика, такого же как и она, человека из ушедшей эпохи. Он, работая, с таким упоением вслушивался в каждую струну, что казалось, нет для него во всём свете большего наслаждения, чем этот тягучий звук.
– Останьтесь, Борис Яковлевич, – властно произнесла учительница, когда он начал складывать свои инструменты, – послушайте как этот уволень играет Сонату номер двенадцать фа мажор Моцарта. При этом взгляните на его пальцы. Это же не пальцы пианиста, это сосиски свиные. Но играет, паганец, прекрасно.
И Миша играл, так и не поняв, его снова обидели или ненавязчиво похвалили, но было приятно, когда Борис Яковлевич после того, как полностью утихал звук последней ноты, вставал и долго хлопал в ладоши.
– Муза Казимировна, вы гений, – глядя ей в глаза поверх своих очков, шептал он, вот-вот готовый прикоснуться своими пересохшими губами к её крепко сжатым и от того слегка сморщенным губам.
Миша с трудом справлялся с рвотным рефлексом, поспешно собирал ноты, и не попрощавшись, убегал…
Маме очень хотелось, чтобы сын играл на пианино, так же хорошо как и его двоюродная сестра, живущая за стеной, что ей не жалко было ежемесячно вырывать из семейного бюджета 15 рублей на обучение, и потом с умилением слушать всю эту непонятную музыку, которая звучала в доме, когда Миша репетировал. Хотя пианино она купила только лишь для того, чтобы досадить ненавистной хохлушке-своячнице и доказать, что тоже что-то может. Потом была новая румынская стенка, цветной телевизор, и как апофеоз соперничества – новенькие "Жигули" голубого цвета. Так что сын стал скорее заложником в разгорающейся войне амбиций враждующей родни. Но разве он тогда это понимал. Он просто исполнял желание мамы. Исполнял, и при этом люто ненавидел то, что делал.
А как он рыдал, забившись под кровать, когда увидел, как вся уличная шпана бежит улюлюкая за грузовиком, в кабине которого сидела его мама с гордо поднятой головой, а в кузове, перевязанный канатами, возвышался чёрный монстр, который на долгие годы станет его пыточной дыбой.
– Мишане пианину везут! – орала детвора, упиваясь предстоящим унижением и без того ежедневно унижаемого толстого мальчишки.
Мише ежедневно приходилось из кожи вон лезть, чтобы избавиться от постоянного тыканья в его жирный живот и от непрекращающихся насмешек. И если бы не уличный авторитет Пашка, решивший взять под свою опеку неуклюжего мальчишку, то ему пришлось бы совсем плохо. Тот был старше на пять лет, умел рисовать голых женщин, делать бомбы, смешивая магний и алюминиевую пудру, и именно он научил Мишку играть в футбол, вернее стоять на воротах.