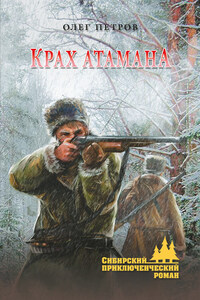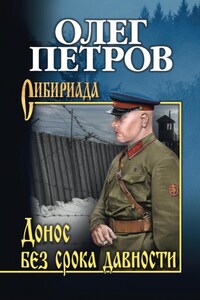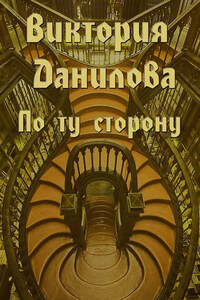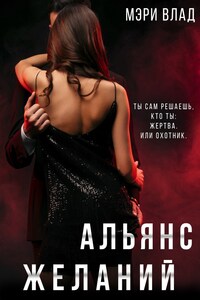Дмитрий кряхтя стащил латаные-перелатаные ичиги и опустил гудящие ноги в воду. Тысячи иголочек ударили в загрубелую кожу. Благолепие небесное! Изгибаясь всем телом, осторожно потянул с плеч лохмотья меховой кацавейки, потом сопревшую, затрещавшую от ветхости рубаху. Двигаться не хотелось. С утра, поди, верст с десяток отмахал по кручам и осыпям.
Блаженствуя, откинулся на спину. Далеко вверху голубел кусочек неба, отсекаемый по дуге неровным краем отвесной, поросшей мхом и лишайниками скалы, и, показалось, прямо в лицо обрушивается рокочущий поток воды. На самом верху сверкающая лавина будто замирала, а потом медленно, с суровой непреклонной силой устремлялась вниз, в круглую чашу, саженей десяти в поперечнике. Подивился лениво: с такой высотищи ухает водяной столб толщиной в добрый десяток мачтовых сосен, а вот, поди ж ты, не разметывает здесь, у подошвы, озерцо-блюдце в кучу брызг. У закраины, где ледяные иголочки сейчас выгоняют ломоту из натрудившихся за день ног, вода спокойная – неторопливо струится, извивается прозрачной змейкой и убегает меж каменных лепешек в густые черемуховые кусты.
Только сейчас Дмитрий ощутил тянущее внутренности чувство голода. Сел, порылся в замусоленной котомке, достал пучок черемши, оторвал крепкими желтыми зубами от тугих сочных стеблей на добрый укус. Серела в котомке и удачно подбитая стрелой утка, так что пора и жарехой заняться – с утра маковой росинки во рту не было. Бросил увесистую птицу на плоский камень, из деревянных ножен вынул сточившийся и почерневший нож. Костерок можно вон там, на песке, разложить, кишки и прочее – долой, да так и запечь в перьях, погуще обмазав глиной. Проглотил тягучий комок слюны, предвкушая пиршество. А оно предстояло богатое, потому как удалось на солончаке наскрести главного сокровища – сольцы.
Вспоротую утицу прополоскал в бегущей струе ручья. Наклонился с дичиной в руках над ямкой с прозрачной быстрой водицей…
Камень такой странный на донце – ноздрясто-желтый чужак среди темных и гладких, водой обточенных. Дмитрий сунул под воду руку, схватил чужака и, не успев донести до глаз, почувствовал необычную тяжесть в пальцах. Самородок! Бугристое золотое яйцо, чуть поменьше голубиного! Насчет золотишка ошибки не было: по молодости держал в руках самородки – в Качуге, на Верхней Лене старатели похвалялись.
Дмитрий птицу на песок бросил, про сосущее нутро забыл. Эва!.. Глаза жадно зашарили по донным камушкам и песку. Святый Боже! Три самородка поменьше прямо-таки кучкой лежали в ямке меж черными голышами! Жадно схватил обеими руками, подкинул на ладони. Чудеса!
Поднял глаза к голубому серпу высокого неба. А не с голодухи ли и усталости мерещится? Но самородки тянули книзу обхватившие их мертвой хваткой пальцы. Да и чего она ему, синь небесная, беглому каторжнику?
Взор снова зашарил по близкому дну, повел глубже, к неспокойной воде, к подошве монотонно, басовито гудящей водяной колонны, низвергающейся с головокружительной скальной высоты. Нет, там уже не разглядишь. Дмитрий отступил в спокойное мелководье, прошаривая по кругу дно озерной чаши. И с каким фартом до мшелой скалы дошел!
Еще четыре золотых камушка – самый большой с бульбу картошкину! – дожидались его на песке под скальной стенкой! Здесь уже озноб от холоднющей воды пробрал крепко, ноги сводить стало. Дмитрий оперся свободной рукой о скользкую каменную стену, стараясь не съехать по гладкому песку крутого дна, уходящего под водяной столб, развернулся на онемевших ногах и неуклюже поковылял к бережку, прижимая к груди левую руку с горстью самородков.