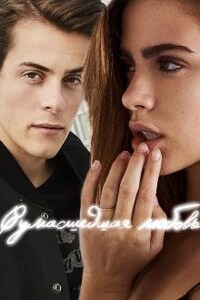Позор. Его я боюсь больше всего. Мне всегда хочется его скрыть, стереть или каким-нибудь другим образом избавиться от него. Писать книги – позор, который скрыть трудно, книга сама по себе документ, и от этого никуда не деться. Позор, так сказать, приобретает масштаб.
В детстве и в ранней юности, в Вестеролене, я пишу дневник, и меня пугает его содержание. В нем есть что-то позорное, и я не могу допустить, чтобы кто-нибудь узнал об этом позоре. У меня много тайников, но главный – в подполе пустого хлева. Под крышкой люка, куда выбрасывают навоз. Этот хлев – место моего добровольного изгнания. Он пустой. Если не считать кур. А кормить их – моя обязанность.
Я сижу в пустом стойле на пыльной скамейке для дойки коров под еще более пыльным окном и пишу желтым шестигранным карандашом. У меня есть финский нож, которым я затачиваю карандаш. Блокнот тоже желтый. Маленький. Чуть больше моей раскрытой ладони. Я купила его в лавке Ренё в Смедвике на собственные деньги и точно знаю, для чего он мне нужен.
Здесь, в хлеву, я чувствую себя в безопасности. Но лишь до того дня, когда он обнаружит мое убежище. Насколько опасным мог оказаться мой дневник, я поняла лишь много лет спустя. Однако тревожное предчувствие зародилось во мне именно там, на скамейке. Поэтому я молчу и прячу дневник. Складываю свои блокнотики в клеенчатый мешок для спортивного костюма, затягиваю шнурок и вешаю мешок на гвоздь под полом хлева. Это надежно и необходимо, в хлеву сильно дует из подпола.
Однажды в воскресенье он около полудня приходит в хлев. Я пытаюсь убежать, однако он загораживает дверь. Я успеваю спасти дневник, незаметно сунув его в сапог. Но дневник его не интересует, ведь он еще не знает, что мне может прийти в голову там написать.
После того как он обнаруживает мое убежище, я вынуждена найти другое. Под нависшей скалой недалеко от дома. Оно не такое надежное, во всяком случае – когда идет снег. Следы. Я кладу свои блокнотики в жестяную коробку и прячу ее среди камней. Зима. Я пишу в варежках. Иногда земля покрывается снежным настом. Это хорошо, только если наст не присыпан свежим снегом. Дневник лучше, чем вечерняя молитва. Молитва слишком короткая, и я произношу ее быстро, мне нечего просить у Бога.
В одиннадцать лет я уже понимаю, какими опасными могут быть слова. Прямо по Юнгу, которого я тогда еще не читала, я сжигаю вещи. Вещи, к которым он прикасался. Втыкаю иголки в его шерстяные носки. Связываю шнурки на его башмаках так крепко, что их приходится разрезать. Осмеливаюсь положить финский нож на мисочку для бритья. Вырезаю длинный лоскут из его анорака. Но последнее оказывается бесполезно. Маме приходится ставить на анорак заплату. Странно, что он этого не понимает. Не про анорак, конечно. А про все остальное.
Он много говорит, но ничего путного в его словах нет. Бранит нас, но мы напуганы и без того. Йордис, моя мама, ставит заплату на анорак. Она тоже ничего не понимает. Йордис вообще говорит мало, лишь когда ей есть что сказать.
Только когда его пароход отходит далеко от берега, я чувствую себя в безопасности.
«Не грозит опасность детям, Бог хранит их всех на свете».
В этой книге я пишу о своей бабушке, прабабушке и их мужьях. У нас многочисленный род, и каждый хочет, чтобы о нем узнали. О некоторых я даже не вспомню, о других упомяну мимоходом. Он больше других требует, чтобы о нем написали. Он все разрушает, сеет хаос и мрак. И обладает властью портить хрупкую радость или прогонять приятные мысли. Только после его смерти у меня возникла потребность понять его как человека. Не для того чтобы простить, но чтобы спасти самое себя. Прощать, к счастью, не моя обязанность, этим займутся высшие силы.