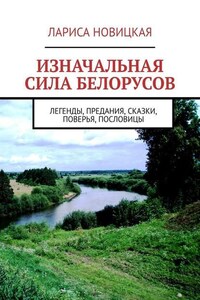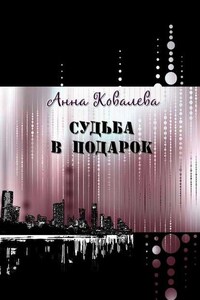В то погожее, солнечное утро в начале мая, когда, можно сказать, и началась невероятная история, связанная с гвитеринскими реликвиями, брат Кадфаэль поднялся задолго до заутрени, чтобы, прежде чем займется день, успеть высадить капустную рассаду, и если о чем и помышлял, то только о зарождении жизни, росте и плодородии, а уж никак не о мощах и гробницах, и тем паче не о насильственной смерти, кого бы она ни постигла, – святого, грешника или обычного человека, далекого от совершенства, вроде него самого. Ничто не нарушало его благодушного настроения, кроме разве что необходимости идти к заутрене да предстоявшего после молитвы собрания капитула, которое должно было продолжаться полчаса, но вечно затягивалось минут на десять дольше положенного. Все это время он с куда большим проком мог провести здесь, на грядках, однако уклониться от выполнения рутинных обязанностей не было возможности. И, в конце концов, тому, кто по доброй воле избрал монашескую стезю, едва ли пристало пенять на некоторые, возможно, не самые привлекательные, стороны монастырской жизни, особенно если в целом она его вполне устраивает и дает чувство несомненного удовлетворения – такое, с каким он сейчас разогнул спину и огляделся по сторонам.
Кадфаэль полагал, что вряд ли в какой другой бенедиктинской обители сыщется лучше ухоженный садик, в котором произрастало бы такое разнообразие душистых трав, как пригодных на приправы к столу, так и неоценимых при приготовлении целебных снадобий. Главные угодья Шрусберийского аббатства Святых Петра и Павла, в том числе и сады, раскинулись к северу от дороги, за пределами монастырских стен. Но здесь, внутри обители, в маленьком огороженном садике неподалеку от аббатских рыбных прудов и ручья, приводившего в действие колесо монастырской мельницы, брат Кадфаэль властвовал безраздельно. Гербариум – садик, где взращивались травы, был предметом его особой гордости, ибо он пестовал его в неустанных трудах в течение полутора десятков лет. Семена многих редкостных растений Кадфаэль вывез из таких далеких краев, как Венеция, Кипр и Святая Земля. Ибо брат Кадфаэль обосновался в обители после долгих странствий, подобно тому как потрепанный бурями корабль обретает наконец тихую гавань. Уж он-то хорошо помнил, как в первые годы его монашества послушники и служки с любопытством таращились на новичка и восхищенно перешептывались: «Ты только взгляни на брата, что работает в саду. Вон тот плотный малый, ходит вразвалку, точно матрос. Представь себе, в молодости он побывал в Крестовом походе, штурмовал Антиохию под началом Годфрида Бульонского, а когда побережье Святой Земли перешло под власть Иерусалимского короля, стал капитаном и десять лет гонялся по морям за корсарами. С трудом верится, правда?»
Однако сам брат Кадфаэль не видел ничего странного в своей богатой событиями жизни: он ничего не забыл и ни о чем не жалел. Не находил он противоречия и в том, что некогда искал упоения в битвах и скитаниях, а ныне искренне наслаждался безмятежной жизнью в обители; правда, и здесь на его долю порой выпадали кое-какие приключения, скрашивавшие однообразное и монотонное существование. Однако он дорожил обретенным покоем: воистину, для корабля, уставшего от житейских штормов, лучшей пристани не сыскать.
Возможно, что глазевшие на него юнцы поговаривали и о том, что коли человек вел такую бурную жизнь, то ему, верно, доводилось знавать и женщин, причем навряд ли он соблюдал целомудрие. Ничего не скажешь – с эдаким прошлым, да и в монахи!
В том, что касалось женщин, досужие языки были правы. Он вспомнил о своей юношеской любви к Ричильдис, с которой был тайно помолвлен и которая десять лет тщетно дожидалась его возвращения – и в конце концов вышла замуж за солидного ремесленника с хорошими видами на будущее, не имевшего склонности убегать неведомо куда да махать мечом. Да, он знавал женщин в разных краях. Он помнил Бьянку, черпавшую воду из каменного колодца в Венеции, лодочницу-гречанку Арианну, сарацинку Мариам, вдову, торговавшую пряностями в Антиохии, которая сочла его достойным на какое-то время заменить ей умершего мужа. Бывали и мимолетные свидания, и серьезные увлечения, но когда приходила пора прощания, ни у кого не оставалось горького чувства. Кадфаэль не отрекался от своего прошлого: он считал, что именно оно позволило ему по достоинству оценить все преимущества созерцательной жизни в обители и научило терпению и умению уживаться с неискушенными душами, с юности, не изведав мирских соблазнов, облачившимися в черные бенедиктинские рясы. Он ушел на покой вовремя. Для человека, немало повидавшего на своем веку, трудно найти лучшее занятие, чем возделывать монастырский огород, доводя его до совершенства. И он никогда бы не обрел умиротворения в монастырских стенах, когда бы прежняя его жизнь была иной.