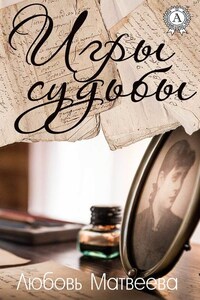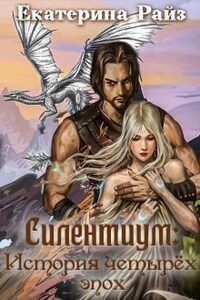У МЕНЯ НЕ ВЫХОДИТ из головы одна фотография. На ней маленькая девочка в цветастом платье кричит в темноте. Повсюду кровь: на ее щеках, платье, земле. Крупным планом взят пистолет, нацеленный на дорогу, где она стоит. Человека, который держит оружие, не видно. Видно лишь его сапоги.
Показав мне этот снимок годы назад, ты рассказала о сделавшем его фотографе, но в моей памяти остался лишь тот крик… и цветы, и кровь, и пистолет.
Ее родители, видимо, не туда повернули. Может, заехали в зону военных действий. Это случилось в Ираке? По-моему, да. Эта история была так давно, что я довольно смутно ее помню. Они не туда повернули, и испуганные солдаты открыли огонь по машине. Родители погибли на месте. Девочке повезло. Или не повезло? Я не знаю.
Любой человек, взглянув на это фото, сперва заметит лишь ужас, потому что именно он искажает лицо ребенка. Затем он увидит детали. Кровь. Цветы. Пистолет. Сапоги.
Твои фотографии часто так же берут за живое. Наверное, я должна думать о твоих работах, а не размышлять у твоего надгробия, как талантлив кто-то другой.
Но я все никак не могу переключиться. Перед глазами стоит лицо девочки. Ее настоящее рушится, и она это понимает. Ее матери больше нет, и она это понимает. Я вижу на этом снимке агонию. И каждый раз, глядя на него, думаю: «Я знаю, что она чувствует».
Нужно перестать пялиться на это письмо.
Я поднял конверт только потому, что перед покосом мы должны убирать с могил любые личные вещи. Я, как обычно, не спешу: восемь рабочих часов никуда от меня не денутся, а мне за них даже не платят.
Я пачкаю грязными пальцами края листа. Нужно выкинуть его, пока меня никто не застукал за чтением. Однако взгляд продолжает скользить по чернильным строкам. Почерк аккуратный и ровный, но не идеальный. Сначала я не понимаю, что меня так цепляет, но потом осознаю: слова написаны дрожащей рукой. Девичьей рукой, это видно. Буквы слегка закруглены.
Я смотрю на надгробие. Оно новое. На блестящем граните высечены четкие буквы:
«Зои Ребекка Торн.
Любимая жена и мама».
Дата смерти: двадцать пятое мая этого года. Мне словно дают под дых. Тот самый день, когда я выхлебал бутылку виски и въехал на отцовском пикапе в пустое административное здание. Забавно, как одна и та же дата может быть навсегда выжжена в сознании людей по совершенно разным причинам.
Торн. Знакомая фамилия, но не могу вспомнить, где я ее слышал. Она умерла всего несколько месяцев назад, в возрасте сорока пяти лет, так что, может, о ней сообщали в новостях. Уж обо мне-то точно сообщали.
– Эй, Мерф! Что ты тут стоишь?
Вздрогнув от неожиданности, я роняю письмо. На вершине холма Болвандес, мой «надзиратель», вытирает брови влажным от пота платком. Конечно, его настоящая фамилия не Болвандес, так же как моя – не Мерф. Но если он позволяет себе вольности с «Мерфи», то почему бы мне не извратиться над «Меландес»? Разница только в том, что я не называю его так в лицо.
– Ничего, – отвечаю я и наклоняюсь за письмом.
– По-моему, ты собирался закончить с этим участком.
– Я и закончу.
– Если не поспеешь, то придется с ним заканчивать мне. А я хочу домой.
Он всегда хочет домой. У него маленькая дочка. Ей три года, и она без ума от диснеевских принцесс, знает все буквы своего имени и умеет считать до трех. В прошлые выходные ей устроили вечеринку в честь дня рождения, на которую пригласили пятнадцать детей из детского сада, и жена Болвандеса приготовила торт.
Все его россказни о семье мне, естественно, по барабану, просто я не могу заставить этого парня заткнуться. Потому и сказал ему, что один покошу этот участок.