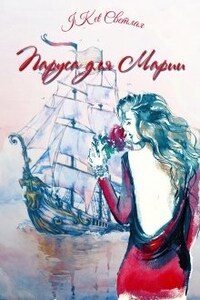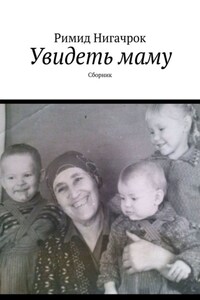Сжиматься и выталкивать, сжиматься и выталкивать — её тело
сейчас могло лишь это.
— Respire! Respire![1] — скомандовал врач, и Наталья
послушно вдохнула. Скорее бы это кончилось.
Кардиомонитор прерывисто пищал, острые зубцы на темно-синем
экране медленно ползли друг за другом. Белый потолок, кусок синей
стены и светло-зеленая простыня, наброшенная на ее воздетые к небу
колени — вот всё, что она могла видеть сквозь полусомкнутые от
слабости веки. Нижняя часть тела — ватная, неуправляемая — жила
сама по себе. Там, под тонкой плотью надутого, как барабан, живота,
дыбились и опадали мышцы. Каждая потуга проходила по телу мощной
волной, но анестезия приглушала вспышки боли — лишь испарина вновь
и вновь выступала на лице и ладонях роженицы, да высохший язык лип
к сладковатому нёбу и обметанным, искусанным губам. Сила,
вызывающая потуги, подчинила ее тело особому ритму, но этот танец
живота выматывал и почти лишал разума.
Наталья провела рукой по голове: короткие волосы были мокрыми от
пота. Выступая на лбу, он попадал в глаза — модный татуаж на месте
выбритых бровей не останавливал капли. Она вытерла их, щурясь.
Медсестра была начеку — тут же подскочила, успокаивающе курлыкая
по-французски, прошлась по лбу ароматизированной салфеткой.
Приторная вонь ириса — цветка, который теперь Наталья была готова
возненавидеть — на мгновение заглушила запах дезинфицирующих
средств.
— Respire! Respire! — снова и снова бубнил доктор.
— Да сколько можно! — заорала она в ответ. — Вколите мне
уже что-нибудь, и пусть этот ребенок, наконец, вылезет из меня!
Plus vite! Plus vite![2] Тупые, долбаные негры!
Вокруг нее засуетились, раскатисто мурлыча, успокаивая. Раньше
французская речь казалась ей красивой, но сейчас это грассирующее
мурлыканье казалось издевательством. Медсестра приблизилась, вновь
поднося к ее лицу салфетку с отвратительным цветочным запахом.
Наталья гневно ударила женщину по руке:
— Иди ты со своей вонючкой! Ненавижу вас всех!
В глазах медицинской сестры мелькнула обида, но скуластое
бронзовое лицо тут же стало бесстрастным.
— C'est pour votre bien[3], — сухо проговорила она.
— Бьен, бьен! Достали уже, лягушатники!
Наталья откинула голову на подушку и уставилась в потолок,
сжимая кулаки от злости. Все случилось совсем не так, как она
задумывала. Роды начались на три недели раньше и застали ее на
Сейшелах, хотя билет в Израиль уже лежал в паспорте. Она собиралась
рожать в Рамат-Гане, в клинике Хаима Шиба, где наблюдалась всю
беременность. Сергей оплатил полный курс родовспоможения еще восемь
месяцев назад. Теперь деньги пропадут, да и шут с ними. Это не ее
проблемы.
Черт бы побрал Джеймса-Альбера, черного жиголо с его крепким
задом и горячими пальцами, между которыми он катал ее соски —
осторожно, медленно, как мягкую пряжу… От этой ласки из розовых
тугих бутонов выступали горячие капли молозива. Он медленно
слизывал их, или давал масляно растекаться под подушечками его
пальцев, затекать под ладони, омывать ее груди этим густым, липким
— а потом он смочил в нем красный страпон и ввел в нее, шепча «Ma
Dairy Queen»[4]. Ощущение сладостной наполненности вытеснило другие
чувства, мерные движения почти погрузили ее в транс. Она все еще
плыла в нем, когда Джеймс-Альбер медленно вынул страпон и вторгся
сам, крепко придавив ее живот, возвышавшийся гладким куполом,
увенчанным горошиной пупка. Его движения стали сильнее, дыхание
сделалось шумным и резким, он почти зарычал, подходя к финалу — и
вдруг резко отстранился, удивленно воскликнув «Merde!»[5] И она
поняла, что лежит в теплой луже — во́ды отошли. Так некстати.
— Respire! Respire!
Тело снова напряглось, сжимая и выталкивая. Теперь мышцы живота
каменели и расслаблялись почти непрерывно. А она сильнее стискивала
зубы, выдавливая из себя воздух короткими, сильными толчками.