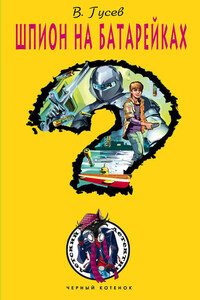Триест – город предчувствий. «В начале этого века мы все еще живем предчувствиями, и предчувствия эти лучше всего ощущаются именно в Триесте. Уже давно, еще до того, как идеи великого венского доктора проникли в итальянские научные круги, студенты, приезжавшие в Триест из Вены, донесли до нас откровение о новом способе проникновения в психологию человека», – так пишет А. Спиани в «Автопортрете из Триеста» (1963)[1].
Мы солидарны с антигероическими и антириторическими настроениями таких известных жителей Триеста, как Звево и Саба, и не соблюдаем здесь, в Триесте, обряд возвращения к истокам, ибо понимаем, что любое возвращение – это отдаление. Мы признаем внимание к истокам постоянным и формальным условием знания и лечения, и в этом смысле Триест открывает перед нами перспективы переосмысления нашей истории, так что – не вдаваясь в ложную риторику, которая замыкается сама на себе, – мы постараемся ответить на все животрепещущие вопросы.
В эти дни некоторые наши коллеги поставят перед собой задачу возвратиться в неповторимый момент нашей истории: в Триест начала XX-го века. Даже при очень беглом взгляде на тот период оказывается совершенно очевидной внутренняя связь между болью каждой конкретной жизни, рождением нового вида лечения и, по выражению Саба, «…страшной болью, потрясшей наш несчастливый век».
О «несчастливости» поистине безумного и трагичного ХХ века размышляли многие. Леви-Страусс еще в середине века писал о «сильных угрызениях совести», мучивших Запад и вынуждавших его «сопоставить собственный образ с образами других народов в надежде, что эти образы отразят сходные проблемы или помогут объяснить, откуда те взялись в его культуре». Во время одного из своих долгих путешествий он познакомился с колдуном Квезалидом, образ которого будет сопровождать нас в этом кратком путешествии по дорогам лечения[2].
Квезалид не верил в силу шаманов и желал разоблачить их мошенничество. Он прошел долгий курс обучения, лишь усугубивший его сомнения и подозрения, но в результате сам стал шаманом. Впервые его позвали к больному, которому он приснился в облике спасителя. Этот первый сеанс имел громкий успех, но Квезалид не изменил своего критического отношения к шаманизму и приписал успех не своим усилиям, а психологическим причинам: «Больной, – утверждал он, – твердо верил в сон, который ему про меня приснился».
Квезалид посетил соседнее племя и вылечил многих людей. Он лечил эффективнее, чем другие шаманы. Наш герой задался вопросом: отчего его метод давал результаты, а другие методы – нет?
Проблема – комментирует Леви-Страусс – «имеет параллель в современной науке: две системы, о которых известно, что они в равной степени недостаточны, демонстрируют, тем не менее, одна относительно другой некое дифференциальное значение как с точки зрения логической, так и с точки зрения экспериментальной. В какой системе координат их оценивать? В фактической, где они неразличимы, или в их собственной, где они принимают неравные величины как теоретически, так и практически?»
Присущий Квезалиду скептицизм свободного мыслителя со временем уступил место более приглушенным чувствам. Существуют ли настоящие шаманы и является ли он одним из них? В конце рассказа это так и не проясняется. Квезалид О.Ж. продолжает выполнять свою работу и гордится своими успехами.