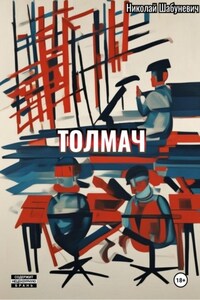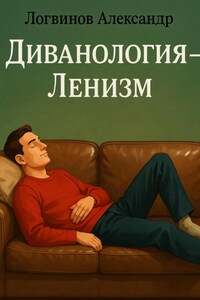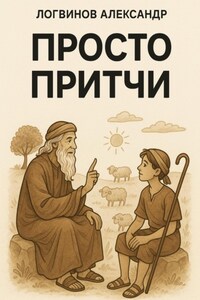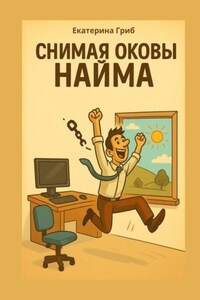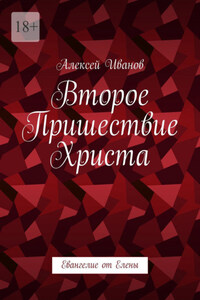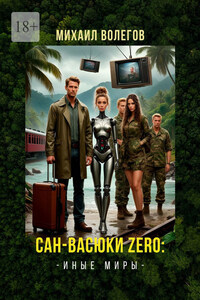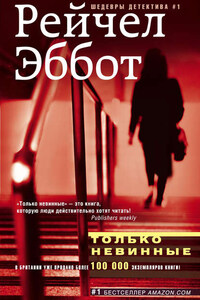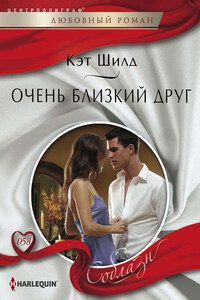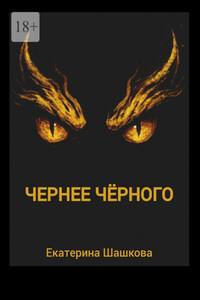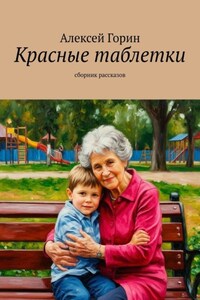ПРОЛОГ
Войти можно в любое положение, кроме служебного. На моей памяти – да и, пожалуй, на вашей – подчинённые и начальники всех звеньев и стажа, вне зависимости от профессиональной сферы или размера служебного подразделения, всегда будут понимать друг друга чуть хуже, чем кошки с собаками. То есть они, в принципе, могут уживаться, некоторые даже из-за созависимости превращаются в подобие котопса (или песикота?), но любовью там и не пахнет.
Мне лично с начальством везло превращаться в котопсов (или песикотов?). Однако даже при нашей синергии и любви такое песикотское существование не исключало обоюдного убеждения, что, если одна сторона выполняет роль головы, то вторая обязательно должна быть задницей. Вероятность того, что обе стороны считают себя головой, намного выше вероятности того, что обе посыпят задницу пеплом. Как минимум на пяти рабочих местах в разных сферах я слышал фразу: «Шабуневич, дануёбтвоюмедь!», при этом ни разу не произносил подобного в адрес начальства (не из страха или даже субординации, а просто потому, что поводы не давали), так что о расстановке функциональных отверстий на теле котопса догадываюсь.
Из-за случая, любопытства и нужды я перепробовал на своей шкуре невероятное количество профессий. Поэтому, исходя из наблюдений за другими работниками и на собственной практике, имел шанс убедиться в истинности этой формулы. Важная ремарка: меня ни разу не увольняли ни с одного места, и на каждом я считался неплохим работником, чаще даже хорошим, но никогда отличным или негодным.
Чтобы стать отличным работником, нельзя быть ленивым, и нужно обязательно быть исполнительным, а главное – нужно иметь амбицию и устремление вверх. В верхних слоях профессиональной атмосферы мне вечно не хватало воздуха, к тому же, подобно Икару, я опасался поплавить крылья. При этом стабильно отличался лёгкой ленцой и тяжёлым характером, отчего страдала исполнительность. Зато именно эти качества в глазах вышестоящих делали меня работником именно хорошим, ведь ни один начальник не опасался за своё место.
Плохим работником у меня стать также не получалось из-за совестливости и синдрома самозванца. Да и глупым или безруким мне себя трудно назвать. К тому же, если долго мучиться, то что-нибудь да получится. В конце концов, для любого дела существует должностная инструкция, образец или заведённый алгоритм действий, с которыми всегда можно ознакомиться. Конечно, всякие неурядицы случались на многих профессиональных поприщах, но провалов, пожалуй, я не припомню.
На разных местах я служил за оклад, в разных сферах отметился подёнщиком, но лишь одной профессии и делу я был верен все эти годы – перевод устный и письменный. Лишь с одной профессией делу жизни изменял, при этом объясняясь в любви – журналистика. Двоеженец я.
Не могу сказать, что в две главные профессии жизни меня привела мечта, случай или образование. Скорее – нежелание бриться. А еще легкая ленца и тяжелый характер. Только Переводчик и журналист может сохранить независимость, а при случае – совесть.
***
– Три профессиональные болезни переводчиков – это алкоголизм, шизофрения и диабет.
– А диабет из-за чего?
– На нервной почве.
С такого диалога Дмитрия Ивановича Победаша и аудитории начался мой курс профессиональных коммуникаций в университете, когда я был студентом. С такого же диалога начинал я свой курс перевода, став преподавателем годы спустя. Не обращайте внимания на клише, которое я одолжил у своего ментора и наставника. Обратите внимание на то, что первые две позиции почему-то ни у кого не вызывают уточняющих вопросов. Почему?
Может быть, внешний вид преподавателя отметает сомнения по поводу первых двух. Да и переводчиков, работающих «в поле», и при этом страдающих ожирением, я не встречал. А может, дело в адресатах, которые мыслят себя переводчиками в будущем и совершенно не могут примерить на себя амплуа алкоголика или тронувшегося умом.