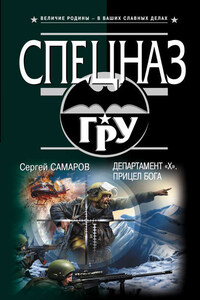Я дошел до «предбанника» и упал на горячий, усыпанный хвойными иголками песок. Густой запах хвои щекотал ноздри. Земля грела и баюкала меня. Она колыхалась на своей орбите. Кто-то покачивал ее, как колыску, что висит в хате у печи. Покачивал в полной тишине…
Я слышал, как ссыпается песок под семенящими ножками муравья. Тишина – удивительная штука. Два с половиной года я не знал ее. Правда, за время боев нас несколько раз отводили на отдых, но фронт был не так уж далеко, за горизонтом все время стучали, рвали брезент; земля оставалась неспокойной, она легонько гудела, как ночной улей. Всей своей шкурой – тогда еще совершенно целой, нигде не продырявленной шкурой – я ощущал этот скрытый гул, даже когда спал. Меня словно подключили к какому-то аккумулятору. Достаточно было нажать кнопку, чтобы ноги сами собой нырнули в сапоги и ремень плотно обхватил гимнастерку. Недаром Дубов говорил, что берет в свою группу только таких ребят, которые тратят на сборы не больше десяти секунд. «Час – мало, а десять секунд – как раз» – это было любимое присловье Дубова, старшего лейтенанта из дивизионной разведки.
Теперь фронт далеко ушел от меня. С ним ушли Дубов и ребята. А я остался… Лежу в соснячке и слушаю тишину. Она как вода – тишина. В нее стреляли фугасными, кумулятивными, трассирующими, зажигательными, шрапнельными, бронебойными, бетонобойными, а она все приняла в себя и сомкнулась, как только стрельба кончилась. Затянула все раны, будто их и не было.
Я разбросал руки. Теплое марево подхватило меня и понесло, словно течение. Сознание замутилось на миг – не так, как от хлороформа, а по-хорошему замутилось, по-легкому.
Мне вспомнилось утро, когда я увидел младшую дочь гончара Семеренкова на озимом клине. Она шла по стежке с коромыслом на плече – высокая, легкая, стройная. Было рано, озимь чуть обозначилась на пашне, а вдали проступала сиреневая кромка лесов. Казалось, девушка сейчас сольется с этой сиреневой кромкой, растает, будто ее и не было. Почему я вспоминаю об этом утре, когда мне хорошо?.. Может, наоборот, мне становится хорошо, когда я вспоминаю об этом?
Я закрыл глаза и заснул. После госпиталя сплю, как январский барсук. Наверно, мне влили кровь какого-нибудь сони. Отсыпаюсь за всю войну. Кемарю себе, не имея охранения, не выставив постов. Наткнется вот так в соснячке кто-нибудь из наших, разнесет на все Глухары, что Иван Капелюх, чудила, единственный парубок на селе, в одиночку ходит в «предбанник» отсыпаться. Девчата на смех поднимут. Ладно… Зато от полесской земли сил прибывает. Происходит подзарядка. Я чувствую, как теплые токи струятся по всем жилам. Хорошо. Мне очень надо поскорее выздороветь. На фронт надо. К ребятам.
Проснулся я оттого, что кто-то пробежал неподалеку – легкий, почти невесомый, словно облачко пыли пронесло ветерком. Никого не было видно и слышно ничего не было, но я хорошо знал, что к ощущениям, которые нарушают наш сон, следует относиться уважительно. Те, кто думал иначе, жестоко поплатились. Помню, как увидел вырезанный немецкими егерями сторожевой пост. Должно быть, тем двум молодым солдатам, не успевшим понять сути войны и позволившим себе заснуть на часок, тоже что-то чудилось сквозь дремоту, но они доверились убаюкивающему течению реки, по которой плыли… И их вынесло на бережок.